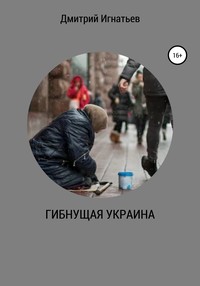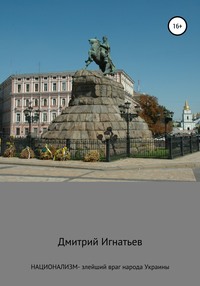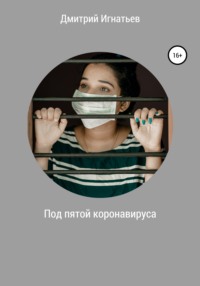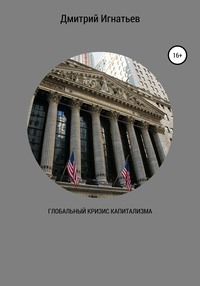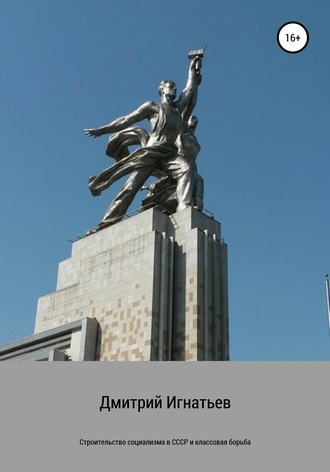 полная версия
полная версияСтроительство социализма в СССР и классовая борьба
С приходом Ежова к руководству НКВД резко усилились репрессии. Причём, как выяснилось впоследствии, при допросах арестованных применялись избиения, пытки и другие незаконные методы ведения следствия. Об этом очень подробно на допросах рассказал Фриновский, заместитель Ежова по НКВД.
«Изданные в начале 2006 г. материалы допросов Ежова и Фриновского, – пишет Гр. Ферр – полностью подтверждают злонамеренно творимые Ежовым пытки и убийства множества ни в чём неповинных людей. Эти массовые злодеяния были организованы им ради сокрытия своей причастности к заговору правых, шпионажа в пользу военных кругов Германии, планов убийства Сталина и других членов Политбюро, для захвата власти путём государственного переворота».
В заявлении Фриновского от 11 апреля 1939 г. подробно рассказывается о преступной деятельности Ежова на посту наркома внутренних дел. Приведу отдельные выдержки из этого заявления, опубликованные Гр. Ферр:
«Стал я преступником из-за слепого доверия авторитетам своих руководителей Ягоды, Евдокимова и Ежова, а став преступником, я вместе с ними творил гнусное контрреволюционное дело против партии… До ареста Бухарина и Рыкова, разговаривая со мной откровенно, Ежов начал говорить о планах чекистской работы в связи со сложившейся обстановкой и предстоящими арестами Бухарина и Рыкова. Ежов говорил, что это будет большая потеря для правых, после этого вне нашего желания, по указанию ЦК могут развернуться большие мероприятия по правым кадрам, и что в связи с этим основной задачей его и моей является ведение следствия таким образом, чтобы, елико возможно, сохранять правые кадры. Нужно расставить своих людей… следователей подбирать таких, которые были бы или полностью связаны с нами, или за которыми были бы какие-либо грехи, и они знали бы, что эти грехи за ними есть, а на основе этих грехов полностью держать их в руках. Включиться самим в следствие и руководить им… записывать не всё то, что говорит арестованный, а чтобы следователи приносили все наброски, черновики начальнику отдела, а в отношении арестованных, занимавших в прошлом большое положение и занимающих ведущее положение в организации правых, протоколы составлять с его (Ежова – ред.) санкции… Было бы неплохо, говорил Ежов, брать в аппарат людей, которые уже были связаны с организацией… Вообще нужно присматриваться к способным людям и с деловой точки зрения из числа уже работающих в центральном аппарате, как-нибудь их приблизить к себе и потом вербовать, потому что без этих людей нам работу строить нельзя, нужно же ЦК каким-то образом работу показывать. В осуществлении этого предложения Ежова нами был взят твёрдый курс на сохранение на руководящих постах в НКВД ягодинских кадров. Необходимо отметить, что это нам удалось с трудом, так как с различных местных органов на большинство из этих лиц поступали материалы об их причастности к заговору и антисоветской работе вообще…». (Евдокимов Е.Г. – до конца 1933 г. работал в органах ЧК-ОГПУ-НКВД, с января 1934 г. – на партийной работе, первый секретарь Северо-Кавказского крайкома, Азово-Черноморского крайкома, Ростовского обкома ВКП(б) – ред.).
Далее в своём заявлении Фриновский рассказывает, как он после октябрьского (1937) Пленума ЦК присутствовал на встрече Евдокимова и Ежова, во время которой собеседники обсуждали возможность спасения правых кадров: «договорились отвести удар от своих кадров и попытаться направить его по честным кадрам, преданным ЦК. Такова была установка Ежова… После ареста членов центра правых Ежов и Евдокимов по существу сами стали центром, организующим:
сохранение по мере возможности антисоветских кадров правых от разгрома; 2) нанесение удара по честным кадрам партии, преданным Центральному комитету ВКП(б); 3) сохранение повстанческих кадров как на Северном Кавказе, так и в других краях и областях СССР с расчётом на их использование в момент международных осложнений; 4) усиленную подготовку террористических актов против руководителей партии и правительства; 5) приход к власти правых во главе с Н. Ежовым».
Причины ареста и последующего суда над Ежовым хорошо раскрываются в книге Янсена и Петрова, биографов Ежова:
«Законность не заботила ежовский НКВД. В январе 1939 г., уже после отставки Ежова, комиссия в составе Андреева, Берии и Маленкова обвинила его в использовании противозаконных методов следствия: “Следственные методы были извращены самым вопиющим образом, массовые избиения огульно применялись к заключённым с тем, чтобы получить от них фальшивые показания и «признания»”. В течение 24 часов следователю зачастую необходимо было получить несколько десятков признаний, и следователи информировали друг друга о полученных показаниях так, чтобы соответствующие факты, обстоятельства, или имена могли быть внушены другим заключённым. “Как результат, такой характер следствия часто приводил к организованному оговору совершенно невиновных людей”. Очень часто признания были получены с помощью “прямой провокации”: заключённых склоняли к ложным признаниям в “шпионской деятельности”, чтобы помочь партии и правительству “скомпрометировать иностранные государства” или в обмен на обещание освобождения. По словам Андреева и других членов комиссии “руководство НКВД в лице товарища Ежова не только не пресекало такой произвол и перегибы в арестах и ведении следствия, но иногда прямо поощряло их”. Вся оппозиция была подавлена».
М. Янсен и Н. Петров не могли оставить без внимания и Эйхе:
«Рассмотрим возражения, высказанные Ежову начальником УНКВД Западно-Сибирского края Мироновым в июле 1937 г. во время конференции в Москве. Как следует из показаний Миронова, полученных от него после ареста, последний сообщил Ежову, что Эйхе “вмешивался в дела НКВД”. Эйхе отдал приказ руководителям городских отделений Кузбасского НКВД арестовать членов партии, хотя улики в большинстве случаев отсутствовали. Своё положение Миронов считал затруднительным: либо ему предстояло освободить часть заключённых и вступить в конфликт с Эйхе, либо органам НКВД надо было “создавать вымышленные дела”. Когда Миронов предложил дать устные указания заинтересованным органам НКВД, чтобы те выполняли только заверенные им самим приказания, Ежов ответил: “Эйхе знает, что делает. Он отвечает за партийные организации, бороться с ним бесполезно. Лучше докладывай о появлении спорных вопросов, и я буду их решать… Следуй указаниям Эйхе и не порть с ним отношения”. Миронов добавил, что у Эйхе была привычка “неожиданно приходить в аппарат НКВД, посещать допросы, вмешиваться в следствие, оказывать давление в том или ином направлении, запутывая тем самым расследование”. Но Ежов остался при своём мнении».
Заместитель Ежова Фриновский после ареста объяснял, что в НКВД главными следователями были «следователи-колольщики», подобранные в основном из «заговорщиков или скомпрометированных лиц». Они «бесконтрольно применяли избиение арестованных, в кратчайший срок добивались “показаний”». С одобрения Ежова именно следователь, а не подследственный решал, чему быть в показаниях. Впоследствии протоколы редактировались Ежовым или Фриновским, обычно без вызова заключённого или мимоходом. По Фриновскому, Ежов поощрял на допросах использование физической силы: он лично контролировал допросы и приказывал следователям использовать «методы физического давления», если результаты оказывались неудовлетворительными. Во время допросов он иногда был пьян.
Как начальник Лефортовской следственной тюрьмы, так и его заместитель после их ареста показали, что во время допросов Ежов принимал личное участие в избиении арестованных. Его заместитель Фриновский делал то же самое.
Вскоре после ареста Ежова Сталин осудил его. В мемуарах авиаконструктора Яковлева читаем оценку деятельности Ежова Сталиным: «Ежов – мерзавец! Разложившийся человек. Звонишь к нему в наркомат – говорят: уехал в ЦК. Звонишь в ЦК – говорят: уехал на работу. Посылаешь к нему на дом – оказывается, лежит на кровати мертвецки пьяный. Многих невинных погубил. Мы его за это расстреляли».
На январском (1938) Пленуме ЦК ВКП(б) был ещё раз рассмотрен вопрос об индивидуальном, дифференцированном подходе к членам партии при рассмотрении их персональных дел, о необходимости покончить с формальным, бездушно-бюрократическим отношением к судьбе отдельных членов партии.
В принятом Постановлении приводится ряд примеров такого бездушного формально-бюрократического отношения к коммунистам, отмечается, что среди коммунистов имеются ещё отдельные карьеристы-коммунисты «старающиеся отличиться и выдвинуться на исключённых из партии, на репрессиях против членов партии, старающиеся застраховать себя от возможных обвинений в недостатке бдительности путём применения огульных репрессий против членов партии». В Постановлении требуется разоблачать таких с позволения сказать коммунистов.
Также в этом Постановлении обращается внимание на имеющиеся ещё факты, «когда замаскированные враги народа, вредители-двурушники в провокационных целях организуют подачу клеветнических заявлений на членов партии и под видом «развёртывания бдительности» добиваются исключения из рядов ВКП(б) честных и преданных коммунистов, отводя тем самым от себя удар и сохраняя себя в рядах партии».
Постановление Пленума обязывает «партийные организации привлекать к партийной ответственности лиц, виновных в клевете на членов партии, полностью реабилитировать этих членов партии».
За последующие месяцы после январского Пленума массовые изгнания из партийных рядов прекратились, большое число исключённых было восстановлено в партии, и впервые с 1933 г. начался приём новых членов, отмечает Гр. Ферр.
И.А. Бенедиктов тоже высоко оценивал значение решений январского Пленума ЦК:
«Сталин, несомненно, знал о произволе и беззакониях, допущенных в ходе репрессий, переживал это и принимал конкретные меры к выправлению допущенных перегибов, освобождению из заключения честных людей. Кстати, с клеветниками и доносчиками в тот период не очень-то церемонились. Многие из них после разоблачения угодили в те самые лагеря, куда направляли свои жертвы. Парадокс в том, что некоторые из них, выпущенные в период хрущёвской «оттепели» на волю, стали громче всех трубить о сталинских беззакониях и даже умудрились опубликовать об этом воспоминания!.. Январский Пленум ЦК ВКП(б) 1938 г. открыто признал беззакония, допущенные по отношению к честным коммунистам и беспартийным, приняв по этому поводу специальное постановление, опубликованное, кстати, во всех центральных газетах. Так же открыто на всю страну говорилось о вреде, нанесённом необоснованными репрессиями, на состоявшемся в 1939 г. XVIII съезде ВКП(б). Сразу же после январского пленума ЦК 1938 г. из мест заключения стали возвращаться тысячи незаконно репрессированных людей, в том числе видные военачальники. Все они были официально реабилитированы, а кое-кому Сталин принёс извинения лично».
Лев Балаян в книге «Сталин и Хрущёв» подчёркивает, что террор не прекратился сам собой, а был остановлен рядом последовательных решений центрального руководства. Всего в 1938 г. было опубликовано шесть постановлений ЦК ВКП(б) по фактам нарушения социалистической законности. «Тройки» и «двойки» при НКВД были упразднены приказом наркома внутренних дел Берия 26 ноября 1938 г.
Балаян продолжает:
«1 февраля 1939 г. прокурор СССР А.Я. Вышинский доложил И.В. Сталину и В.М. Молотову, что Главной военной прокуратурой по просьбе секретаря Вологодского обкома выявлены факты особо опасных преступлений, совершённых рядом сотрудников вологодского УНКВД. Как было установлено, фальсификаторы уголовных дел составляли подложные протоколы допросов обвиняемых, якобы сознавшихся в совершении тягчайших государственных преступлений… Сфабрикованные таким образом дела были переданы на тройку при УНКВД по Вологодской области, и более ста человек были расстреляны…Во время допросов доходили до изуверства, применяя к допрашиваемым всевозможные пытки. Дошло до того, что во время допросов этими лицами четверо допрашиваемых были убиты».
Данное дело о тягчайшем преступлении против соцзаконности слушалось на закрытом заседании Военного трибунала Ленинградского военного округа в присутствии узкого состава оперативных работников Вологодского управления НКВД и вологодской прокуратуры. Обвиняемые Власов, Лебедев и Роскуряков как инициаторы и организаторы данных вопиющих преступлений были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу, а остальные семь их подельников – к длительным срокам лишения свободы. И таких вот власовых, лебедевых и роскуряковых было по всей стране 11842 – репрессированных негодяя, которых даже в пору безоглядного горбачёвского всепрощенчества пресловутая комиссия Александра Яковлева не сочла возможным реабилитировать. На совести именно этих фальсификаторов уголовных дел, обвинённых в необоснованных массовых арестах, применении незаконных методов следствия, которым даже полвека спустя было отказано в реабилитации по Указу Верховного Совета Союза ССР от 16 января 1989 г., – лежит ответственность за те самые «тысячи и тысячи невинно репрессированных», которых Хрущёв, а затем его выдвиженец и выученик Горбачёв благополучно «навесили» на покойного И.В. Сталина.
Янсен и Петров пишут о другом из таких фальсификаторов – А.И. Успенском, который с января 1938 г. стал правой рукой Хрущёва в проведении репрессий на Украине. Во время следствия в апреле 1939 г. Успенский утверждал, что «в ежовской инструкции значилось: “Бей, уничтожай без разбора”; Успенский цитирует слова Ежова, сказанные по поводу уничтожения врагов, что “какое-то число невинных будет тоже истреблено”, но это “неизбежно”. В двух других источниках приводится похожая формулировка: Ежов объявил, что “если в ходе операции будет расстреляна лишняя тысяча, большой беды в том не будет”.
Во время конференции (НКВД 16 июля 1937 г. – Г.Ф.) Ежов и Фриновский беседовали с каждым из приехавших начальников УНКВД, обсуждая запрашиваемые ими квоты на аресты и казни и инструктируя их по поводу мероприятий, связанных с подготовкой и проведением операции. Миронов проинформировал Ежова о «правотроцкистском блоке», раскрытом в руководстве Западно-Сибирского края (первым секретарём Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) был Эйхе – ред.). Когда он сказал о неубедительности улик против некоторых из задержанных, Ежов возразил: ”Ты почему не арестовываешь их? Мы не собираемся работать для тебя, сажать их в тюрьму, затем рассортировывать, отделяя тех, против кого нет улик. Действуй смелее, я уже неоднократно говорил тебе”. Он добавил, что с согласия Миронова в некоторых случаях начальники отделов могут применять “физические меры воздействия”. Когда Успенский спросил Ежова, что делать с 70-летним арестантом, тот отдал приказ расстрелять его…Успенский был удивлён и встревожен его (Ежова – Г.Ф.) пьяными разговорами за столом. Во время поездки (по Украине – Г.Ф.) Ежов непрерывно пил, хвастаясь Успенскому, что держит Политбюро в “руках” и может делать буквально всё, арестовать любого, включая самих членов Политбюро».
Алексей Наседкин, бывший начальник Смоленского УНКВД, с мая 1938 г. нарком внутренних дел БССР, рассказывал, что Ежов одобрял деятельность тех руководителей НКВД, которые приводили «астрономические цифры» на репрессированных, докладывая о намеченных арестах в десятки тысяч человек. На конференции НКВД в январе 1938 г. Ежов, заслушав цифры, «похвалил всех “отличившихся” и объявил, что эксцессы, несомненно случались то здесь, то там, например, в Куйбышеве, где по указаниям Постышева Журавлёв пересажал весь партийный актив области. Но тотчас добавил, что “в таких масштабных операциях ошибки неизбежны”.
Берия во главе НКВД.
22 августа 1938 г. на должность первого заместителя Народного комиссара внутренних дел был назначен Лаврентий Павлович Берия. А 25 ноября 1938 г. Берия был назначен наркомом внутренних дел вместо отстранённого с этого поста Ежова.
Хрущёв в своём закрытом докладе говорит о «банде Берия», которая фабриковала дела.
Эту ложь опровергают даже буржуазные историки. В частности, Г. Ферр ссылается на Р. Тэрстона, который подробно пишет о том, как Хрущёв исказил то, что случилось, когда Берия стал во главе НКВД. Его приход, по словам историка, тотчас повлёк за собой период «поразительного либерализма»: пытки прекратились, заключённым были возвращены их законные права. В конце 1938 г. заключённым в тюрьмах и лагерях вернули имевшиеся при Ягоде и отнятые при Ежове права на обладание книгами, на шахматы и другие игры. Теперь следователи стали обращаться вежливо на «вы», вместо снисходительно-фамильярного «ты». Сообщники Ежова лишились своих должностей, многие из них пошли под суд и были признаны виновными в незаконных репрессиях.
В соответствии с докладом комиссии Поспелова, аресты резко пошли на убыль: за 1939-1940 гг. их число сократилось более чем на 90% по сравнению с 1937-1938 годами. Число казней в 1939-1940 гг. упала ниже 1% от уровня 1937-1938 гг., т.е. более чем в 100 раз.
Хрущёв пользовался докладом комиссии Поспелова для «закрытого доклада», поэтому не мог не знать этих фактов, но решил не упоминать их, чтобы таким образом не дать аудитории ни малейшего повода усомниться в предложенной им трактовке событий.
Именно в бытность Берии во главе НКВД прошли судебные процессы в отношении тех, кто обвинялся в незаконных репрессиях, массовых казнях, пытках и фальсификациях уголовных дел. Многие невинно осуждённые, по разным данным от 100 тысяч до 280 тысяч человек вышли на свободу из тюрем и лагерей ГУЛАГа. Хрущёву всё это было известно, но тоже скрыто им.
Фальсификаторы.
В книге Героя Советского Союза генерал-майора Докучаева «История помнит», приводятся данные Госархива о числе осуждённых за 1921-1953 гг. (сталинский период). Всего было осуждено 4 млн. 60 тыс. 306 чел., из них к высшей мере наказания приговорено 786 тыс. 98 чел. (данные приведены в книге Баженова и Пономаренко «Сталин: грани личности и деятельности»). При этом необходимо учитывать, что в число осуждённых входят не только лица, осуждённые за контрреволюционную деятельность, но и обычные уголовники (убийцы, насильники, казнокрады и пр.).
Точно такую же цифру приводит в своих исследованиях и бразильский историк Марио Соуса («ГУЛАГ: архивы против лжи»). При этом следует иметь в виду, что не все приговорённые к высшей мере наказания, были расстреляны. Значительная часть смертных приговоров была заменена сроками в трудовых лагерях.
Также в своей брошюре Соуса разоблачает миф о «голодоморе» на Украине, якобы организованным сталинским режимом.
В 1934 г. знаменитый американский газетный магнат, отец так называемой «жёлтой прессы» Уильям Херст совершил путешествие в фашистскую Германию и был принят Гитлером. После этой встречи в газетах Херста появилась серия статей, направленных против социализма, Советского Союза и, в особенности, против Сталина. Херст пытался также использовать свои газеты в качестве неприкрытой фашистской пропаганды, публикуя статьи Геринга, правой руки Гитлера. Правда, протест читателей заставил его прекратить публикации фашистских главарей. А вот лживые публикации, наполненные описаниями «ужасов», происходящих в Советском Союзе, практически ежедневно заполняли страницы херстовских изданий.
К этому времени Херст был одним из самых богатых людей в мире, его состояние в 1935 г. оценивалось в 200 млн. долл. В 1940 г. Херст был владельцем медиа-империи, состоявшей из 25 ежедневных газет, 24 еженедельных изданий, 12 радиостанций, 2 мировых агентств новостей, одного предприятия по производству новых тем для кинофильмов, киностудии Cosmopolitan и многого другого. В 1948 г. Херст приобрёл одну из первых американских телестанций BWAL-TV в Балтиморе. Газеты Херста продавались в количестве 13 млн. экз. ежедневно и имели около 40 млн. читателей только в Соединённых Штатах. Почти треть взрослого населения США ежедневно читали газеты Херста. Кроме того, миллионы читателей по всему миру получали информацию из прессы Херста через сообщения информационных агентств, фильмов и газет, которые переводились и печатались по всему миру в огромных количествах.
Херст по своим убеждениям был ультраконсерватором, националистом и антикоммунистом. И такое же антикоммунистическое антисоветское мировоззрение он посредством своей медиа-империи формировал у миллионов обывателей США и других стран.
Одной из первых антисоветских кампаний Херста был миф о голодоморе на Украине. 18 февраля 1935 г. на первой странице Chicago American была опубликована статья «6 миллионов человек умерли от голода в Советском Союзе». Использовав материалы, поставляемые нацистской Германией, Херст начал печатать фальсификации о геноциде, возлагая всю вину за голод на большевиков и лично Сталина.
На самом деле, на селе в СССР в период коллективизации шла острая классовая борьба между кулаками (сельская буржуазия, примерно 10 млн. чел.), наживавшимися на эксплуатации беднейшего крестьянства, и бедняками, составлявшими подавляющее большинство населения села (110 млн. чел.), которые стремились вырваться из вековечной нужды и нищеты, вступая в колхозы и лишая тем самым кулаков дармовой рабочей силы.
Нацистская кампания дезинформации о голоде на Украине, раздутая херстовской прессой, не закончилась с поражением фашистской Германии. Она была подхвачена ЦРУ и МИ-5 и использовалась ими в идеологической борьбе против Советского Союза.
В 1986 г. на эту тему появилась книга бывшего английского разведчика, впоследствии профессора Стамфордского университета (Калифорния) Роберта Конквеста «Жатва скорби». За свою «работу» над книгой Конквест получил гонорар в 80 тыс. долл. от Организации украинских националистов (ОУН). Та же организация оплатила съёмки фильма «Жатва отчаяния», в котором использованы материалы книги Конквеста. Число жертв от голода на Украине в этой книге и поставленном на её основе фильме увеличено до 15 миллионов человек.
Ложь, распространённая прессой Херста и воспроизведённая и многократно увеличенная множеством изданий и фильмов, вошла в обыденное сознание как западного обывателя, так и одурманенного антисталинской истерией советского народа.
Канадский журналист Дуглас Тоттл скрупулёзно показал фальсификации в своей книге «Мошенничество, голод и фашизм. Миф о геноциде на Украине от Гитлера до Гарварда», – пишет Марио Соуса. Эта книга опубликована в Торонто в 1987 г. Тоттл доказал, что устрашающие фотографии голодных детей сделаны во время гражданской войны и иностранной военной интервенции и имевшего место голода в этот военный период, и взяты из фотографий 1922 г.
Примером разоблачения подтасовок херстовской лжи является следующий факт: журналист, долгое время снабжавший херстовкую прессу фотографиями и репортажами из голодных районов Украины, Томас Уолкер – человек, никогда не бывавший на Украине. Даже в Москве он пробыл всего 5 дней. Этот факт был раскрыт московским корреспондентом американской газеты Nation Льюисом Фишером.
Фишер обнаружил также, что журналист М. Перротт, корреспондент херстовских газет, в действительности работавший на Украине, посылал Херсту сообщения о высоких урожаях, полученных в СССР в 1933 г. Но эти репортажи так и не были опубликованы. Тоттл обнаружил к тому же, что Томас Уолкер, писавший отчёты в херстовскую прессу об украинском голоде, в действительности был Робертом Грантом, осуждённым, а затем исчезнувшим из тюрьмы в Колорадо. Этот Грант-Уолкер был арестован, когда возвратился в США, и на допросе признался, что никогда на Украине не был.
И Марио Соуса делает вывод: «Вся ложь относительно миллионов умерших от голода на Украине в 30-е годы, голода, якобы организованного Сталиным, обнаружилась лишь в 1987 г. Херст, фашисты, полицейский агент Конквест и другие формировали мнения миллионов обывателей сфальсифицированными сообщениями».
Ещё один злобный фальсификатор истории, это Александр Солженицын, доведший число погибших от «сталинских репрессий» до 110 миллионов человек. Солженицын с 1962 г., с согласия и при помощи Хрущёва, начал публиковаться в Советском Союзе. Первой опубликованной книгой был «Один день Ивана Денисовича», посвящённый тюремной жизни. Хрущёв использовал книги Солженицына как таран для разрушения сталинского наследия.
То есть, Хрущёв продолжил дело Херста-Конквеста и других клеветников на сталинский социализм. Результат мы получили в предательский горбачёвский период.
Подводим итоги
В 30- е годы шла острая классовая борьба между большевиками, боровшимися за построение социализма в СССР и остатками разбитых эксплуататорских классов, не желавших уходить без боя с исторической арены.
Партия большевиков во главе со Сталиным выражала интересы рабочего класса, трудового крестьянства и трудящейся интеллигенции, строивших социализм
Интересы уходящих эксплуататорских классов выражали троцкисты, бухаринцы, зиновьевцы и им подобные как в партии, так и вне её, в их числе и ряд переродившихся партийных руководителей, которые понесли заслуженное наказание за свою антисоветскую деятельность.