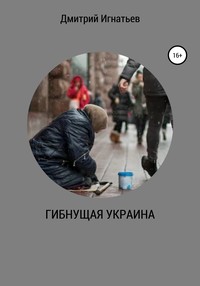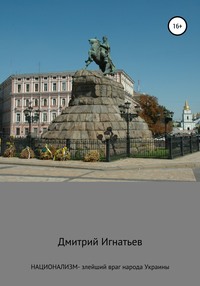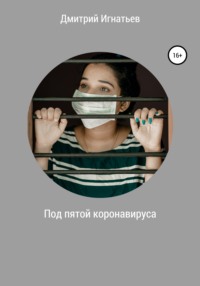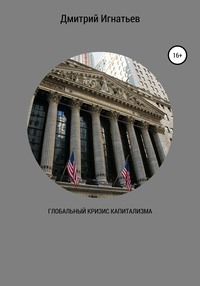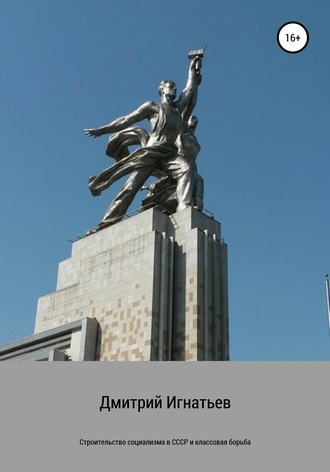 полная версия
полная версияСтроительство социализма в СССР и классовая борьба
Но то, что Ленин продолжал доверять Сталину, говорит и его просьба к Сталину достать Ленину цианистый калий из-за невыносимых страданий. Сталин доложил об этой просьбе Политбюро и отметил, что выполнить её не сможет.
То, что Сталина уважали все близкие Ленина, говорит следующее.
Писатель А. Бек записал воспоминания ленинского секретаря Лидии Фотиевой, в которых она подчёркивает: «Вы не понимаете того времени. Не понимаете, какое значение имел Сталин. Большой Сталин …Мария Ильинична (сестра Ленина – ред.) ещё при жизни Владимира Ильича сказала мне: ”После Ленина в партии самый умный человек Сталин”… Сталин был для нас авторитет. Мы Сталина любили. Это большой человек. Он же не раз говорил: “Я только ученик Ленина”».
Когда в 1932 г. покончила жизнь самоубийством жена Сталина, Крупская, соболезнуя ему, написала письмо, опубликованное в «Правде» 16 ноября:
«Дорогой Иосиф Виссарионыч, эти дни как-то всё думается о вас и хочется пожать вам руку. Тяжело терять близкого человека. Мне вспоминается пара разговоров с вами в кабинете Ильича во время его болезни. Они мне тогда придали мужества. Ещё раз жму руку. Н. Крупская».
О коллегиальности и коллективном руководстве.
Хрущёв обвиняет Сталина в нарушении принципа коллективности руководства, в нарушении коллегиальности. А вот что об этом говорят товарищи, близко знавшие Сталина и тесно работавшие с ним.
Маршал Жуков расценил заявления о «нетерпимости» Сталина к чужому мнению как не соответствующие истине:
– «После смерти И.В. Сталина появилась версия о том, что он единолично принимал военно-стратегические решения. Это не совсем так. Выше я уже говорил, что, если Верховному докладывали вопросы со знанием дела, он принимал их во внимание. И я знаю случаи, когда он отказывался от своего собственного мнения и ранее принятых решений. Так было, в частности, с началом сроков многих операций».
– «Кстати сказать, как я убедился во время войны, И.В. Сталин вовсе не был таким человеком, перед которым нельзя было ставить острые вопросы и с которым нельзя было бы спорить и даже твёрдо отстаивать свою точку зрения. Если кто-либо утверждает обратное (т.е. Хрущёв – Г.Ф.), прямо скажу – их утверждения неверны».
– «Стиль работы, как правило, был деловой, без нервозности, своё мнение могли высказать все. Верховный ко всем обращался одинаково – строго и официально. Он умел внимательно слушать, когда ему докладывали со знанием дела. Сам он был немногословен и многословия других не любил».
Мнение Хрущёва не разделял и Анастас Микоян. В мемуарах, написанных после 1964 г., он писал:
– «Должен сказать, что каждый из нас имел полную возможность высказать и защитить своё мнение или предложение. Мы откровенно обсуждали самые сложные и спорные вопросы (в отношении себя я могу говорить об этом с полной ответственностью), встречая со стороны Сталина в большинстве случаев понимание, разумное и терпимое отношение даже тогда, когда наши высказывания были ему явно не по душе. Он был внимателен и к предложениям генералитета. Сталин прислушивался к тому, что ему говорили и советовали, с интересом слушал споры, умело извлекая из них ту самую истину, которая помогала ему потом формулировать окончательные, наиболее целесообразные решения, рождаемые, таким образом, в результате коллективного обсуждения. Более того, нередко бывало, когда, убеждённый нашими доводами, Сталин менял свою первоначальную точку зрения по тому или иному вопросу».
– «Хотя товарищеская атмосфера работы в руководстве ни в коем случае не принижала роли Сталина. Наоборот, мы почти во всех случаях собственные предложения, оформленные за подписью Сталина, приписывали целиком Сталину, не декларируя, что автором является не Сталин, а другой товарищ. И он подписывал, иногда внося поправки, а иногда и этого не делая, даже иногда не читая, так как доверял».
А вот что считал бывший министр сельского хозяйства СССР И.А. Бенедиктов:
«Вопреки распространённому мнению, все вопросы в те годы, в том числе и относящиеся к смещению видных партийных, государственных и военных деятелей, решались в Политбюро коллегиально. На самих заседаниях Политбюро часто разгорались споры, дискуссии, высказывались различные, зачастую противоположные мнения в рамках, естественно, краеугольных партийных установок. Безгласного и безропотного единодушия не было: Сталин и его соратники этого терпеть не могли. Говорю это с полным основанием, поскольку присутствовал на заседаниях Политбюро много раз. Да, точка зрения Сталина, как правило, брала верх. Но происходило это потому, что он объективней, всесторонней продумывал проблемы, видел дальше и глубже других».
Маршал С.М. Штеменко, тесно соприкасавшийся по работе со Сталиным в годы войны, в книге воспоминаний «Генеральный штаб в годы войны», подчёркивает:
«Должен сказать, что Сталин не решал и вообще не любил решать важные вопросы войны единолично. Он хорошо понимал необходимость коллективной работы в этой сложной области, признавал авторитеты по той или иной военной проблеме, считался с их мнением и каждому отдавал должное. В декабре 1943 г. после Тегеранской конференции, когда потребовалось наметить планы действий на будущее, доклад на совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), ГКО и Ставки относительно хода борьбы на фронте и её перспектив делали А.М. Василевский и А.И. Антонов, по вопросам военной экономики докладывал Н.А. Вознесенский, а И.В. Сталин взял на себя анализ проблем международного характера».
Февральско-мартовский (1937 г.) Пленум ЦК ВКП (б).
Для понимания сущности происходящих в партии процессов во второй половине тридцатых годов очень важное значение имеет доклад Сталина на февральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г. «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников».
На основании докладов и прений по ним, Сталин приходит к выводам о том, что:
– вредительская и диверсионно-шпионская работа агентов иностранных государств и среди них троцкистов, задела в той или иной степени почти все наши организации, как хозяйственные, так и административные и партийные;
– агенты иностранных государств, в т.ч. троцкисты, проникли не только в низовые организации, но и на некоторые ответственные посты;
– некоторые руководящие товарищи не сумели не только разглядеть настоящее лицо этих вредителей, диверсантов, шпионов и убийц, но оказались настолько беспечными, благодушными и наивными, что нередко сами содействовали продвижению агентов на руководящие посты.
Сталин обращает внимание на то, что факты вредительства за последние 10 лет имели место в нашей стране, начиная с шахтинского дела.
Здесь и убийство товарища Кирова, и судебные процессы «Ленинградского центра», «Зиновьева-Каменева», давшие новое обоснование урокам, вытекающим из факта этого злодейского убийства.
Судебный процесс «Зиновьевско-троцкистского блока» показал, отмечает Сталин, что зиновьевцы и троцкисты объединяют вокруг себя все враждебные буржуазные элементы, что они превратились в шпионскую диверсионно-террористическую агентуру германской полицейской охранки, что двурушничество и маскировка являются единственным средством проникновения зиновьевцев и троцкистов в наши организации, что бдительность и политическая прозорливость представляют наиболее верное средство для предотвращения такого проникновения и ликвидации зиновьевско-троцкистской шайки.
ЦК ВКП(б) в своих закрытых письмах от 18 января 1935 г. и 29 июня 1936 г. по поводу злодейского убийства Кирова и шпионско-террористической деятельности троцкистско-зиновьевского блока решительно предостерегал партийные организации от политического благодушия, обывательского ротозейства, призывал парторганизации к максимальной бдительности, к умению распознавать врагов народа, как бы они ни маскировались.
Эти призывы были направлены на то, чтобы ликвидировать слабость партийно-организационной работы и превратить партию в неприступную крепость, куда бы не мог проникнуть ни один двурушник.
Но воспринимались все эти призывы более чем туго, отмечает Сталин.
Сталин показывает, что это благодушие, политическая беспечность обусловлены тем, что наши партийные товарищи, увлечённые хозяйственными делами и колоссальными успехами на фронте хозяйственного строительства, забыли о некоторых важных фактах, в частности, из области международного положения СССР, не заметили фактов, имеющих прямое отношение к нынешним вредителям и шпионам, прикрывающимися партийным билетом и маскирующимися под большевиков.
Сталин напоминает, что Советская власть победила только на одной шестой части света, что СССР находится в обстановке капиталистического окружения, что буржуазные страны выжидают только случая, чтобы напасть на СССР, разбить его или, во всяком случае, подорвать его мощь и ослабить его.
Сталин обращает внимание на то, что буржуазные государства засылают друг другу в тыл шпионов, вредителей, диверсантов, а иногда и убийц, дают им задание внедриться в учреждения и предприятия этих государств, создать там свою сеть и, «в случае необходимости», – взорвать их тылы, чтобы ослабить их и подорвать их мощь.
«Сейчас Англия и Франция кишат немецкими шпионами и диверсантами и, наоборот, в Германии в свою очередь подвизаются англо-французские шпионы и диверсанты. Америка кишит японскими шпионами и диверсантами, а Япония – американскими», – подчёркивает Сталин и отмечает, что «таков закон взаимоотношений между буржуазными государствами».
Понятно, говорит далее Сталин, что в тылы Советского Союза буржуазные государства должны засылать вдвое, втрое больше вредителей, шпионов, диверсантов и убийц, чем в тылы любого буржуазного государства.
«Не ясно ли, что пока существует капиталистическое окружение, будут существовать у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, засылаемые в наши тылы агентами иностранных государств? Обо всём этом забыли наши партийные товарищи и, забыв об этом, оказались застигнутыми врасплох», – делает вывод Сталин.
Далее Сталин обращает внимание на то, чем является современный троцкизм.
Ранее, 7-8 лет тому назад, троцкизм был политическим течением в рабочем классе, имевшим свою определённую политическую платформу, программу, которую он не прятал от рабочего класса, а, наоборот, пропагандировал открыто, чтобы убедить его в правоте своих взглядов. Правда, троцкизм был антиленинским и потому глубоко ошибочным течением.
Современный троцкизм боится показать рабочему классу своё действительное лицо, прячет от рабочего класса свои действительные цели и задачи, каковыми является реставрация капитализма в СССР, опасаясь, что рабочий класс проклянёт их как людей чуждых и прогонит от себя.
На судебном процессе в 1937 г. над Пятаковым, Радеком и Сокольниковым была показана политическая сущность троцкистской платформы, платформы антинародной и антипролетарской:
«Реставрация капитализма, ликвидация колхозов и совхозов, восстановление системы эксплуатации, союз с фашистскими силами Германии и Японии для приближения войны с Советским Союзом, борьба за войну и против политики мира, территориальное расчленение Советского Союза с отдачей Украины немцам, а Приморья – Японцам, подготовка военного поражения Советского Союза в случае нападения на него враждебных государств и как средство достижения этих задач – вредительство, диверсия, индивидуальный террор против руководителей Советской власти, шпионаж в пользу японо-немецких фашистских сил».
В сталинские годы троцкистам не удалось осуществить задуманное. Но в горбачёвский период эта платформа воплощена в жизнь. Насколько глубоко и исторически провидчески смотрел Сталин, оценивая деятельность троцкистов и их приверженцев.
И Сталин обращает внимание на то, что «современный троцкизм нельзя уже назвать политическим течением в рабочем классе. Современный троцкизм есть не политическое течение в рабочем классе, а беспринципная и безыдейная банда вредителей, диверсантов, разведчиков, шпионов, убийц, банда заклятых врагов рабочего класса, действующих по найму у разведывательных органов иностранных государств».
Ошибка наших товарищей заключается в том, что они не заметили этой глубокой разницы между троцкизмом в прошлом и троцкизмом в настоящем, – отмечает Сталин.
Эта слепота, беспечность и благодушие многих партийных товарищей, обусловлены тем, поясняет Сталин, что они за последние годы были всецело поглощены хозяйственной работой, до крайности увлечены хозяйственными успехами и забыли обо всём другом, забросили всё остальное. А на такие вопросы как международное положение Советского Союза, капиталистическое окружение, усиление политической работы партии, борьба с вредительством и т.п. не стали просто обращать внимания.
Сталин обращает внимание на опасности, связанные с успехами, с достижениями, которые порождают настроения беспечности и самодовольства, убивающих чувство меры и притупляющих политическое чутьё, размагничивают людей и толкают их к тому, чтобы почивать на лаврах.
«Таковы корни нашей беспечности, забывчивости, благодушия, политической слепоты. Таковы корни недостатков нашей партийной работы», – делает вывод Сталин.
И Сталин ставит задачи по преодолению этих недостатков. К ним относятся:
– Повернуть внимание партийных товарищей, увязающих в «текущих вопросах», в сторону больших политических вопросов международного и внутреннего характера.
– Поднять политическую работу партии, поставив во главу угла задачу политического просвещения и политической закалки кадров.
– Разъяснять, что хозяйственные успехи «значение которых бесспорно очень велико и которых мы будем добиваться и впредь», всё же не исчерпывают всего дела нашего социалистического строительства, что самодовольство, беспечность и притупление политического чутья могут быть ликвидированы, если сочетать хозяйственные успехи с успехами партийного строительства, развёрнутой политической работы партии.
– Помнить и никогда не забывать, что капиталистическое окружение является основным фактом, определяющим международное положение Советского Союза. А пока есть капиталистическое окружение, будут и вредители, диверсанты, шпионы, террористы, засылаемые в тылы Советского Союза разведывательными органами иностранных государств.
– Разъяснять, что троцкисты уже давно превратились в беспринципную и безыдейную банду вредителей, диверсантов, шпионов, убийц, работающих по найму у иностранных разведывательных органов; отсюда и новые методы борьбы с ними – методы выкорчёвывания и разгрома.
– Старый лозунг шахтинского периода об овладении техникой необходимо теперь дополнить новым лозунгом об овладении большевизмом, о политическом воспитании кадров и ликвидации нашей политической беспечности.
– Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперёд классовая борьба будет затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы более и более ручным. Это опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу даёт возможность оправиться для борьбы с Советской властью.
«Наоборот, – продолжает далее Сталин, – чем больше будем продвигаться вперёд, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обречённых».
И Сталин обращает внимание на то, что остатки разбитых классов в СССР не одиноки, что они имеют прямую поддержку со стороны наших врагов за пределами СССР.
А ведь Хрущёв и критиковал Сталина за положение (марксистко-ленинское, заметим это) об обострении классовой борьбы в период строительства социализма. Результат, предсказанный выше Сталиным – враг (мировой капитал) после войны оправился и, в опоре на внутренних предателей и перерожденцев, нанёс поражение социализму и разрушил СССР.
В своём докладе Сталин показал необходимость решительной борьбы с троцкистами и другими врагами советского народа.
А вот в заключительном слове на Пленуме ЦК, с которыми он выступил 5 марта 1937 г., Сталин остановился на том, как практически надо вести эту борьбу по разгрому и выкорчёвыванию врагов рабочего класса, изменников нашей Родины. Он выступил против огульного подхода в данном вопросе, в необходимости индивидуального, дифференцированного подхода: «Нельзя всех стричь под одну гребёнку. Такой огульный подход может только повредить делу борьбы с действительными троцкистскими вредителями и шпионами», – подчеркнул Сталин.
Также Сталин остановился на формальном, бездушно-бюрократическом отношении некоторых партийных товарищей к судьбе отдельных членов партии, к вопросу об исключении из партии или к вопросу о восстановлении исключённых в правах членов партии, подчеркнул, что «некоторые наши партийные руководители страдают отсутствием внимания к людям, к членам партии, к работникам».
У таких товарищей нет индивидуального подхода к людям. Отсюда они либо огульно хвалят членов партии, партийных работников, либо исключают из партии тысячами, а то и десятками тысяч, «не заботясь об “единицах”, об отдельных членах партии, об их судьбе». Исключить из партии тысячи, несколько десятков тысяч данные товарищи считают пустяковым делом, т.к. партия у нас двухмиллионная. «Но так могут подходить к членам партии лишь люди, по сути дела глубоко антипартийные», – указывает Сталин.
«В результате такого бездушного отношения к людям, к членам партии и партийным работникам – продолжает Сталин, – искусственно создаётся недовольство и озлобление в одной части партии, а троцкистские двурушники ловко подцепляют таких озлобленных товарищей и умело тащат их за собой в болото троцкистского вредительства». И Сталин подчеркнул необходимость внимательного отношения к людям, к членам партии, к судьбе членов партии.
О «сфальсифицированных» делах.
В своём закрытом докладе Хрущёв обвиняет Сталина в том, что были сфальсифицированы ряд дел против членов ЦК, избранных на XVII съезде партии, в частности, против Эйхе, Рудзутака, Розенблюма, Кабакова, Косиора, Чубаря, Постышева, Косарева и др. Гр. Ферр доказательно опровергает эту лживую информацию по каждому якобы «сфальсифицированному» делу.
Одним из самых жёстких (думаю, здесь точнее подойдёт слово – злобных) партийных руководителей, который целенаправленно уничтожал партийный и советский актив, многих честных коммунистов был Постышев. На январском (1938) Пленуме ЦК ВКП(б) за необоснованные исключения из партии большого числа её членов, он сам был выведен из кандидатов в члены Политбюро. Вот что пишет об этом историк Юрий Жуков, на которого ссылается Гр. Ферр:
«На январском Пленуме 38-го года основной доклад сделал Маленков. Он говорил, что первые секретари подмахивают даже не списки осуждённых «тройками», а всего лишь две строчки с указанием их численности. Открыто бросил обвинение первому секретарю Куйбышевского обкома партии П.П. Постышеву: вы пересажали весь партийный и советский аппарат области! На что Постышев отвечал в том духе, что арестовывал, арестовываю и буду арестовывать, пока не уничтожу всех врагов и шпионов! Но он оказался в опасном одиночестве: через два часа после этой полемики его демонстративно вывели из кандидатов в члены Политбюро, и никто из участников Пленума на его защиту не встал».
Исследователь Вадим Роговин приводит фрагмент стенограммы январского (1938) Пленума ЦК:
«Постышев. Руководство там (в Куйбышевской области) и партийное, и советское, было враждебное, начиная от областного руководства и кончая районным.
Микоян. Всё?
Постышев. Что тут удивляться?.. Я подсчитал и выходит, что 12 лет сидели враги. По советской линии то же самое: сидело враждебное руководство. Они сидели и подбирали свои кадры. Например, у нас в облисполкоме вплоть де технических работников самые матёрые враги, которые признались в своей вредительской работе и ведут себя нахально, начиная с председателя облисполкома, с его заместителя, консультантов, секретарей – все враги. Абсолютно все отделы облисполкома были засорены врагами… Теперь возьмите председателей райисполкомов – все враги. 60 председателей райисполкомов – все враги. Подавляющее большинство вторых секретарей, я уже не говорю о первых, – враги, и не просто враги, но там много сидело шпионов: поляки, латыши, подбирали всякую махровую сволочь…
Булганин. Честные люди хоть были там?.. Получается, что нет ни одного честного человека.
Постышев. Я говорю о руководящей головке. Из руководящей головки, из секретарей райкомов, председателей райисполкомов почти ни одного человека честного не оказалось. А что же вы удивляетесь?
Молотов. Не преувеличиваете ли вы, тов. Постышев?
Постышев. Нет, не преувеличиваю. Вот, возьмите облисполком. Люди сидят. Материалы есть, и они признаются, сами показывают о своей враждебной и шпионской работе.
Молотов. Проверять надо материалы.
Микоян. Выходит, что внизу, во всех райкомах враги…
Берия. Неужели все члены Пленумов райкомов оказались врагами?..
Каганович. Нельзя обосновывать тем, что все были мошенники».
Сталин расценил поступки Постышева так:
«Это расстрел организации. К себе они мягко относятся, а районные организации они расстреливают… Это значит поднять партийные массы против ЦК, иначе это понять нельзя».
По словам писателя Владимира Карпова, Постышев подтвердил свои показания Молотову:
«В моих беседах с Молотовым на его даче заходил разговор о репрессиях. Однажды я спросил:
– Неужели у вас не возникали сомнения, ведь арестовывали людей, которых вы хорошо знали по их делам ещё до революции, а затем в Гражданской войне?
– Сомнения возникали, однажды я об этом сказал Сталину, он ответил: “Поезжайте на Лубянку и проверьте сами, вот с Ворошиловым”. В это время в кабинете был Ворошилов. Мы тут же поехали. В те дни как раз у нас были свежие недоумения по поводу ареста Постышева. Приехали к Ежову. Он приказал принести дело Постышева. Мы посмотрели протоколы допроса. Постышев признаёт себя виновным. Я сказал Ежову: “Хочу поговорить с самим Постышевым”. Его привели. Он был бледный, похудел и вообще выглядел подавленным. Я спросил его – правильно ли записаны в протоколах допроса его показания? Он ответил – правильно. Я ещё спросил – “Значит, вы признаёте себя виноватым?”. Он помолчал и как-то нехотя ответил: “Раз подписал, значит признаю, чего уж тут говорить…”. Вот так было дело. Как же мы могли не верить, когда человек сам говорит?».
Письмо Андреева Сталину 31 января 1938 г. касательно постышевских беззаконий:
«2) За время с августа месяца исключено из партии около трёх тысяч человек, значительная часть которых исключалась без всяких оснований как враги народа или пособники. На Пленуме обкома секретари райкомов приводили факты, когда Постышев прямо толкал на произвол и требовал от них исключения и ареста честных членов партии или за малейшую критику на партсобраниях руководства обкома, а то и без всяких оснований. Вообще весь тон задавался из обкома.
Так как все эти дела выглядят довольно провокационно, пришлось арестовать несколько наиболее подозрительных, ретивых загибщиков из обкома и горкома, бывшего второго секретаря Филимонова, работников обкома Сиротинского, Алакина, Фоменко и других. При первых же допросах все сознались, что являлись участниками правотроцкистской организации до последнего времени. Окружая Постышева и пользуясь его полным доверием, развернули дезорганизаторскую и провокационную работу по роспуску парторганизаций и массовому исключению членов партии. Пришлось арестовать также Пашковского, помощника Постышева. Он сознался, что скрыл, что в прошлом был эсером, был завербован в 1933 г. в Киеве в правотроцкистскую организацию и, очевидно, он польский шпион. Он был из окружения Постышева одним из активных в деле произвола и дезорганизации по Куйбышеву. Раскручиваем дела дальше, чтобы разоблачить эту банду.
Пленум обкома не собирался ни разу с выборов в июне… Пленумы райкомов в Куйбышеве обком прямо запрещал собирать, активов тоже не было».
В сентябре 1936 г. на пост наркома внутренних дел (НКВД) был назначен Ежов Н.И. Одновременно при этом он оставался секретарём ЦК ВКП(б), председателем Комиссии партийного контроля (КПК) при ЦК ВКП(б), «с тем, чтобы он девять десятых своего времени отдавал Наркомвнуделу», отмечается в телеграмме Сталина и Жданова от 25 .09.1936 г. Кагановичу, Молотову и другим членам Политбюро ЦК. Т.е. Ежов входил в состав высшего руководства партии, которая ему доверила руководить Наркоматом внутренних дел, с 1937 г. – кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Его предшественник Генрих Ягода «оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздал в этом деле на 4 года», говорится в той же телеграмме. Ягода был назначен на пост наркома связи и очень скоро выяснилось, что он сам принадлежал к руководству правотроцкистским заговором.