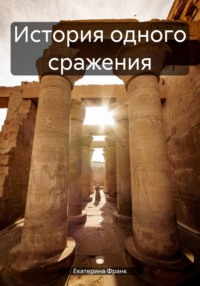полная версия
полная версияПод флагом цвета крови и свободы
– В-вас?.. В бордель? – затуманенные алкоголем мозги Эдварда соображали туго, и сперва он даже решил, что ослышался: – Зачем это?
– Ну, мистер Дойли! – с шутливым возмущением Морено пихнула его в плечо. – За чем обычно в такие места ходят?
– Н-но вы же… Вы женщина…
– А, вы про это! – она беззаботно махнула рукой. – Тамошние девушки не слишком взыскательны. Были бы деньги – а уж как их отработать, они придумают.
– И… вы?..
– Нет, – покачала она головой, снова рассмеявшись: – Говорю же, совсем мелкая была. Сперва еще держалась как-то – на хмелю, да и деньг жаль было – а как мы наверх поднялись… Неловко вышло: та женщина только-только разделась, ко мне подходит, а я цап свою шляпу с тумбочки – и вниз с воплем: «До свиданья!..» Тогда мне очень стыдно было, а теперь… – задумчиво разглядывая ночное небо над головой, прошептала она. Эдвард, качнувшись, тронул ее за подбородок:
– Сеньорита… А я вам говорил, что у вас очень… очень красивые глаза?
– Нет, мистер Дойли, – помотала головой девушка, утыкаясь ему лицом куда-то в шею. – И это хорошо, что не говорили.
– П… Почему? – растерялся мужчина, неловко обхватывая ее обеими руками за пояс и не давая совсем сползти на палубу.
– Потому… потому что раньше это была бы просто игра… а теперь уже совсем не смешно… – сонно пробормотала ему в плечо Эрнеста, окончательно укладываясь в его объятия. Дойли чувствовал, что и у него самого от выпитого кружится голова и все тело будто плывет в душном жарком мареве – но, глядя на мирно уснувшую на его руках девушку с внезапно нахлынувшей на сердце тоской, он осознал, что именно просто обязан сделать.
Никогда еще путь до каюты Эрнесты не казался ему таким долгим, запутанным и трудным – но каким-то чудом он смог добрести до нее, даже не потревожив свою спящую ношу. Сгрузив ее на широкий сундук, он остановился, подумав, не лучше ли на этом остановиться; затем, собравшись с мыслями и силами, разыскал в углу аккуратно свернутый гамак, натянул, осторожно переложил в него девушку и укрыл вынутой из сундука простыней.
– Спасибо, мистер Дойли. Вы хороший человек, – переворачиваясь на другой бок и по-детски подкладывая сложенные ладони под щеку, пробормотала Эрнеста. Эдвард замер, дернулся, словно от удара, обернулся было, но сил в себе взглянуть на ее лицо не нашел. Кое-как он вышел, притворив за собой дверь, полуощупью добрался по темному кораблю до кубрика, повалился в первый же свободный гамак и сразу уснул мертвым сном.
Глава
XVII
. Непростая молодость
Наверху, на расстеленной прямо на палубе парусине, уже сидели по меньшей мере десятка полтора страдавших тяжким похмельем матросов. Мучимые тошнотой и головной болью, они плотно жались друг к другу, передавая бутылки с остатками вчерашнего пиршества или по двое-трое отправляясь на полусогнутых ногах на гальюнную палубу – в одиночку осуществить подобный маневр было трудновато. В другое время Эдвард усмехнулся бы, но то же смутное чувство, не оставившее его и после продолжительного сна, не позволило ему этого.
Первым ему на глаза попался боцман Макферсон – всегда крепкий к вину, он уже протрезвел и внутри небольшого кружка матросов хриплым, заунывным голосом тянул песню:
– Эй, юнга, ступай-ка в трюм;
Ты налей нам рому тайком, да покрепче.
Помянуть товарищей, да на дне морском.
Ведь мы же не звери, чтобы сгинуть за так…
Эй, матрос, ты скорей разворачивай парус!
Скоро отправимся в дальний путь.
Эй, принимайся живей за работу –
Море не терпит ленивых и трусов.
Эй, рулевой, крепче держись за штурвал:
Ветер попутный несет нас навстречу судьбе.
К Богу ли, к дьяволу в пекло –
Что ни выпадет, примем мы все… – пел старый боцман, и его товарищи, в меру своих сил, подтягивались следом вразнобой. Их голоса, хриплые у кого от выпитого, у кого – от возраста, а у кого-то – попросту от природы отнюдь не певческого тембра, и впрямь складывались в какую-то причудливую, неровную мелодию, полную и тоски, и смирения, и решимости, и нарочитой гордой беспечности, и еще чего-то странного – того самого спокойного осознания, принятия всего, происходящего вокруг, которое так удивляло Эдварда в пиратах и чего он прежде напрасно ожидал от куда более достойных людей. Пираты были преступниками и сознавали это, но относились к своему беззаконному способу существования так же, как к известиям от новых налогах на их родине в Старом Свете, возможной перспективе собственной смерти в очередном абордаже, силуэту испанского галеона-охотника на горизонте или необходимости после тяжелой ночной вахты подменять слегшего от внезапной болезни товарища – спокойно и бесстрашно, не боясь ни земной расплаты за свои грехи, ни Божьего суда, хотя и не отрицая их теоретической возможности. Совсем как тогда… тогда…
Серебристый, особенно неспешно и ладно звучавший на фоне хрипловатых вскриков остальных девичий голос выдернул его из тягостных воспоминаний. Эдвард, признаться честно, даже не заметил, когда именно закутанная в непривычный для нее камзол Эрнеста появилась на палубе и присоединилась к певцам – быть может, она и до того сидела где-нибудь неподалеку, как всегда, размышляя о чем-то своем. Но теперь она пела, в отличие от Макферсона, легко выговаривая журчащие английские слова и не коверкая их никаким акцентом – а за ней оживала вся растекшаяся по верхней палубе команда, и даже откликался кто-то из трюма, с кубрика, вкладывая свою лепту в этот рассказ о пиратской жизни:
– Эй, боцман, кнут опусти свой!
Мы и сами работать на совесть не прочь, коли кровь горяча –
Ведь себя же одних и обманем иначе,
Опусти его, мы не собаки, чтоб бить нас сплеча!
Эй, штурман, скажи нам наш курс!
Ты уж постарайся не бросить нас в шторм,
Хоть мы и скверные, все же – люди:
Раньше срока не хочется рыбам на корм…
Эй, квартирмейстер, избранник команды!
Расстарайся, чтоб было нам выпить и съесть
Хоть чего-то – и нашей нужды не забудь,
А то выйдем ль на сушу – Бог весть!
Эй, капитан, капитан наш отважный!
Добычи по силам досталось нам сколько-нибудь –
За товары и деньги отдали кость, кровь и пот –
Так при дележке ты нас не забудь!
Эй, Господь Всемогущий на небе высоком!
Все дела – пред тобой на весах да в последний наш час.
Плохо ли, ладно ли жили – Тебе лишь ответим;
Господи, сами себя не жалели, пожалей хоть ты нас!..
Прохладная ладонь тронула его за плечо, и Дойли, вздрогнув, поднял тяжелую голову. На палубе уже вовсю пели другую песню, громкую и затейливую – а Морено, расстелив свой камзол на коленях и с иголкой в руках подшивая оторвавшуюся подкладку, сидела рядом с ним. Сбоку от нее прямо на палубе, укрывшись левой фалдой и рукавом, свисавшими вниз, сопел свернувшийся калачиком Карлито.
– Вам не понравилась наша песня? – тихо и спокойно спросила она, наматывая нитку на палец и перерезая складным ножом вместо ножниц. Дойли, застигнутый врасплох, нахмурился:
– Нет. Нет, с чего вы взяли?
– Да бросьте притворяться, – устало посоветовала Эрнеста, заканчивая работу и полностью укрывая спящего мальчишку починенным камзолом. Тонкие пальцы ее при этом быстро, едва заметно прошлись по черным кудрям Карлито, убирая закрывшие лицо пряди. – До сих пор вздохнуть толком не можете – я сперва даже подумала, что у вас сердце вдруг заболело. Знаете, бывает так, если долго не пить, а потом хватить лишнего – оно не в голову ударит, не в ноги, а именно сюда, – она приложила руку к груди и сделала глубокий вдох. – Но если будь дело в этом, вы бы разбудили мистера Халуэлла и попросили у него что-нибудь, верно? Стало быть, не сердце у вас болит – а может, и оно, только ром тут ни при чем.
– Все верно, – после долгого молчания согласился Эдвард. – Дело совсем не в роме.
– А в чем же? – спросила Морено, сложив руки на коленях и устремляя на него внимательный взгляд своих темных глаз, неправдоподобно ярких для этого серого, облачного утра. – Что с вами случилось, мистер Дойли? Какие у вас личные счеты с пиратами?
Эдвард ответил не сразу; никогда не будучи излишне застенчив, за исключением лишь ранней молодости и знакомства с Мэри Фостер, он все же с трудом представлял, можно ли говорить с пираткой о том, что, казалось, давно позабытое, вновь всколыхнулось с его душе вместе с услышанной песней.
– Это было давно, – глухим голосом начал он, глядя куда-то в пустоту. – Я тогда только-только стал четвертым помощником…
***
… Капитан Эванс был – что необычно – доволен ими. Старый военный, он твердо верил в то, что малейшая похвала развращает подчиненных, а потому никогда не позволял подобного ни себе, ни другим офицерам. Эдвард, имевший перед глазами лишь пример слабохарактерного пьяницы-отца, не считал такой принцип несправедливым: ему нравилась железная дисциплина на судне, а к старому капитану, при всей его суровости, он успел привязаться и чувствовал, что Эвансу тоже не совсем безразлична его участь. Исполнительный, старательный и схожий с ним по воззрениям юноша нравился капитану, так что тот, закрыв глаза на отсутствие у него необходимого образования, произвел его в лейтенанты и назначил четвертым помощником, а по возвращении в Англию намеревался отправить в офицерскую школу по рекомендации – иного способа попасть туда, за исключением особого героизма, у Дойли, не имевшего денег и слишком взрослого – ему уже сравнялось двадцать лет – не было.
Но у его покровителя все же имелась одна слабость, которую в последующие годы Эдвард нередко наблюдал и в себе: болезненная, яростная и беспощадная ненависть ко всяким нарушениям – правил поведения, корабельного устава, законов – и твердое стремление наказать ослушников. Не удивительно, что вольных морских разбойников, не стыдившихся своего дела, он ненавидел больше всех. Команда успела как следует понять это: и во время вчерашнего боя, длившегося почти целый день, и теперь, когда два десятка уцелевших пиратов, скованные по рукам и ногам, ожидали своей участи в трюме. Для капитана, да и для команды куда выгоднее было сохранить пленных и доставить в Англию, получив затем за это назначенное вознагрждение. К тому же возложенная на них миссия сопровождать «Альбатрос», грузовое судно, направлявшееся в Порт-Ройял, была уже благополучно завершена, местные воды благополучно проверены на отсутствие испанских судов, и ничто не препятствовало возвращению назад. Однако капитан Эванс распорядился иначе.
Эдвард, только-только сдав вахту – в бою ему удалось отделаться парой царапин, вследствие чего остаток дня, следующую ночь и все утро он провел, по очереди заменяя менее удачливых офицеров – как раз собирался отправиться спать хоть на пару часов, когда капитан подозвал его к себе и жестким, звенящим голосом велел вывести пленных на верхнюю палубу.
Эдварду и раньше доводилось исполнять разные непростые поручения Эванса: и собственноручно наказывать провинившихся матросов кошкой, и дважды объявлять команде об урезании и без того скудного пайка, когда корабль попадал в мертвый штиль, и спорить с боцманом Робинсом – изрядным пьяницей, но всегда столь яростно отстаивавшим интересы своих подопечных, что и теперь еще Дойли, закрывая глаза, видел это темно-багровое, с сизым носом и выпученными глазами, лицо, а в ушах у него до сих пор звенели бесконечные упреки в том, что матросы не могут голодать неделями, не спать по двое суток и более, сидеть в карцере за косой взгляд или брошенное от усталой злости ругательство, обходиться судовым врачом, который одновременно и кок, и священник, и второй плотник… Могут. А если и не могут, то должны! – с яростью возражал молодой Дойли, и тот, что глядел на его хищное, жадное до капитанской похвалы и мимолетного проявления собственной власти лицо через кривое зеркало десяти прожитых лет, не мог не признать, что этот юнец был в чем-то прав: моряк может вынести все, особенно если он матрос. Особенно – если он пират-матрос.
Но и тот, молодой и хищный, и даже повзрослевший на десять лет Эдвард Дойли никак не мог представить, что должен был чувствовать самый первый пират – даже под угрозой пыток пленные отказались сперва выдать своих командиров, поэтому пришлось килевать всех подряд – уже поднятый на рей, привязанный за руки и ноги к протянутой под килем корабля веревке – и знающий, что будет, когда за один из ее концов начнут тянуть…
Эдвард не отворачивался, не морщился, даже когда превратившееся в кровавый кусок мяса тело тяжело и мокро шлепнулось на палубу – Эванс приучал своих людей бестрепетно выносить и не такое. Дождавшись кивка капитана, он вместе с боцманом подошел к трупу, развязал охватывавшие ободранные теплые лодыжки и запястья концы веревки и принялся, не глядя в лицо, обматывать ими руки и ноги следующего пирата. Кто-то из пленных кричал на него, осыпая проклятиями и ругательствами, и от этого становилось немного легче – человеческий голос помогал отвлечься, не думать о том, что Эдвард делал прямо сейчас привычно и уверенно собственными руками. Лишь один раз он обернулся и посмотрел – но не на казнимого, а на капитана – и сразу же отвел глаза, не решаясь вздохнуть от подступившего к сердцу щемящего мучительного чувства. То был не страх, отнюдь нет – его наставник никогда не пугал Эдварда: даже теперь, когда тот стоял, сощуренными немигающими глазами впиваясь в медленно исчезавшую в кильватере человеческую фигуру, глубоко и тяжело вздыхая, так, что ему даже пришлось пойти на неслыханную поблажку своему телу, расстегнув верхнюю пуговицу тугого воротника – даже теперь капитан Эванс не внушал своему верному лейтенанту страха. Все можно было понять и объяснить – не теперь, но после, когда это закончится, спросить, нет ли у капитана каких-то распоряжений, почти незаметно проследовать за ним в каюту, и уже там, вдали от посторонних глаз, за спокойным течением чужой обстоятельной речи, все обязательно наладится…
Но пират булькнул кровью и поднял голову. Именно в тот момент, когда его товарищ – тот самый, проклинавший и ругавшийся – закричал, забился, осознав, что он следующий. Веревка, мокрая от крови, выскользнула из рук Эдварда, он метнулся поднять ее – и осекся, увидев страшное, нечеловеческое уже лицо предыдущего казненного. У того изрезаны были лоб, щеки и подбородок, половину носа вместе с правым ухом снесло, как бритвой, а где-то на скуле страшно белела кость; но глаза были оба целые и совершенно живые, устремленные прямо на обреченного товарища. Тот даже кричать перестал и стоял абсолютно неподвижно – бери и вяжи, но забытая веревка валялась на палубе под ногами у Эдварда, а сам он не то что о ней, он собственное имя едва ли вспомнил бы в тот момент, глядя на ожившего мертвеца перед собой. Пират скалил окрашенные густой, вязкой кровью зубы и смотрел в ответ.
– Паршивое… пар… шивое у вас корыто, – прохрипел он, косясь на застывшего, белого Эванса. – Днище гладк… кх, кх… гладкое, киля будто и нет.
Дойли, отмерев, тоже с ужасом воззрился на капитана: тот, тяжело дыша, рвал от горла расстегнутый воротник и глядел на пирата налитыми кровью глазами, каких Эдвард никогда раньше у него не видел. В тот момент он впервые в жизни испытал страх перед человеком, под началом которого ходил полных четыре года.
– Взять его, – таким же хриплым, задушенным голосом распорядился Эванс. Боцман Робинс еле слышно выругался, отпихнул замешкавшегося Дойли и наклонился за веревкой:
– Шевелись-ка, парень. Еще раз…
Схваченный пират не сделал никакой попытки высвободиться – наоборот, сам протянул к Эдварду ободранные до мяса руки и снова забулькал своим жутким смехом, когда тот не с первого раза сумел затянуть узел непослушными пальцами. Остальные пленники молчали, и эта мертвая тишина стала последней каплей: капитан Эванс тяжело, всем своим затянутым в мундир корпусом развернулся к стоявшим у каната матросам и заорал не своим голосом:
– Тяните же!
Заскрипели веревки, и окровавленное тело снова исчезло за бортом. Эдвард, слегка пошатываясь – он еще верил где-то в глубине души, что все только что произошедшее было лишь плодом его воспаленного тропическим солнцем разума – уперся обеими руками в планшир и закрыл глаза. Под веками болезненно ярко горели розовые пятна расплывавшейся в кильватере крови – но если не глядеть на них и не думать о том, что именно через минуту-другую извлекут из-за противоположного борта, терпеть еще оставалось возможно…
Вытащенный из воды труп молчал – это было и понятно, разве мертвые могут говорить? – поэтому Дойли, немного отойдя от первого щемящего ужаса, оказался в силах отправиться снова помогать боцману. Развязывая веревки, он спиной чувствовал тяжелый взгляд капитана.
– Вон того. Волчонка, – распорядился Эванс, указывая на одного из пленных пиратов – тот казался совсем мальчишкой, не старше пятнадцати лет – худой, как щепка, но со злыми и умными глазами, неотрывно следившими за окружавшими пленных вооруженными солдатами – и при виде него у Дойли снова тревожно кольнуло сердце. Еще раньше, чем он успел добраться до приговоренного, тот сам шагнул ему навстречу, гордо вскинув подбородок – и неожиданно между ними вклинился кто-то третий. Рослый, на две головы выше Эдварда, он и со связанными за спиной руками и в кровь разбитым ртом смотрелся внушительно – Дойли мгновенным, отточенным жестом наставил на него пистолет, но здоровяк не отступил:
– Берите меня, а парня не трогайте. Он не из нашей команды, мы его просто в плен взяли и заставили работать!.. – громко и неумело соврал он, впиваясь умоляющим взглядом в лицо Эдварда. Глаза у пирата неожиданно оказались голубыми, как небо в ясную погоду, и удивительно честными: такие Дойли доводилось видеть у самых порядочных людей, довольных своей простой, немудреной жизнью – и само лицо его внушало какую-то смутную приязнь, будто лист бумаги, заполненный аккуратным и очень крупным почерком.
– Брось, Билл, – одернул его другой, щуплый и невысокий не то испанец, не то итальянец – разобрать из-за размазавшейся по лицу крови и распухшего, явно сломанного носа было сложно, а Эдвард вдобавок не горел желанием внимательно рассматривать очередного приговоренного к мучительной смерти – в том, что следом за мальчиком капитан Эванс назовет именно этих двоих, он даже не сомневался. Здоровяк повел массивным плечом, отмахиваясь от товарища, но не сдвинулся с места.
– Вам же плевать, кого забирать, – упрямо повторил он, глядя на Эдварда с таким видом, словно именно от того зависело, чья жизнь оборвется следующей. – Пощадите, сэр, уж на моей-то душе грехов всяко больше, чем на его!.. – резкий удар прикладом ружья по ребрам заставил его умолкнуть, сложившись пополам.
– Всем вам одна судьба будет, подождешь, – мрачно отрезал Робинс, проводя по воздуху тяжелым дулом. – Эй, парень, ты чего застрял?
– Не надо, мистер Катлер. Уж помереть я как-нибудь сумею, это ж не бегущий булинь завязать, – сквозь зубы бросил мальчишка, с вызовом глядя на своих палачей – даже Робинс поневоле осекся, чуть аккуратнее необходимого прихватив его за разорванный ворот рубашки:
– Шагай!
Здоровяк Билл, отступивший было после удара в сторону и тотчас удержанный в этом положении своим осмотрительным товарищем, вновь дернулся им навстречу – казалось, он упорно не желал мириться с неизбежным – однако его вдруг оборвал негромкий, жутковатый чавкающий звук, похожий на не то вздох, не то всхлип. Казавшийся мертвым пират вновь поднял голову: все лицо его было изрезано до мяса, а глаза уже не закрывались разорванными веками, но распухшие, посиневшие губы все еще растягивались в непобедимой усмешке.
– Эй, вы, ублюдки красномундирные, – при каждом слове выплевывая на палубу пенистую кашу из слюны и крови, медленно, четко выговорил он. – Кончилась у вас фантазия али как?
– Взять его! Еще раз, немедленно!.. – вместо прежнего сиплого шепота другим, высоким, почти срывающимся во взвизг голосом вмешался капитан Эванс: руки его при этом тряслись, как у последнего пьяницы, а пальцы правой непроизвольно дергались в сторону заткнутого за пояс пистолета. В подобном состоянии он бывал нечасто, но мог в нем застрелить кого угодно; только это и заставило Эдварда преодолеть отвращение и ужас, еще раз приблизившись к не желавшему умирать пирату. Забытого мальчишку швырнули обратно в толпу пленных, и заступавшийся за него здоровяк сразу же оттеснил его подальше от вооруженных солдат. Все хранили молчание: и пираты, и их конвоиры, одинаково сознававшие, что близится развязка этой чудовищной ситуации.
Когда окровавленное тело снова вытащили из воды, сам капитан Эванс направился к нему и ткнул носком сапога в обнажившееся мясо бока. Эдвард, не решаясь ни вздохнуть, ни сглотнуть огромный горький ком в горле – для него оставалось загадкой, как его до сих пор не вывернуло наизнанку – осторожно опустился на корточки и дотронулся до шеи пирата, нащупывая пульс – в глубине души он отчаянно молился, чтобы тот наконец оказался мертв. Пальцы легко нащупали нужную вену, но почувствовать что-нибудь, кроме собственного бешено бьющегося сердца, Эдвард не мог. И отдернуть руку тоже – капитан Эванс стоял прямо над ним и глядел сурово, испытующе:
– Ну?..
Огромным усилием Дойли заставил себя убрать пальцы и разогнуться. Глядеть в лицо Эвансу он не осмелился:
– Полагаю, он… мертв, сэр. После такого никто… – закончить фразу ему помешал новый приступ хрипа и бульканья, вырвавшегося из легких пирата.
На Эванса страшно было смотреть. От обычного ледяного спокойствия не осталось и следа: не страшась запачкать руки, он наклонился и схватил казненного за грудки.
– Как ты смеешь? Как смеешь? – зашипел он с почти безумной яростью. – Как ты можешь…
– Могу, не сомневайся, – прямо в его белоснежный воротник выплюнул тот густые шматки крови с остатками зубов. – Я – их квартирмейстер. Слышишь, ты, а, паскуда в галунах позолоченных? Они меня выбрали, сами выбрали! Не дождешься, не сдохну – никого из них ты под киль не отправишь больше прежде меня!.. – он громко, хрипло расхохотался и не умолк даже в ту секунду, когда Эванс, задыхаясь, рванул с пояса пистолет…
Эдвард, пошатываясь, осторожно спустился в трюм – слава Богу, его отсутствия никто не заметил. Эхо выстрела еще долго раздавалось в его ушах: так с ним бывало в самом начале службы, когда он юнгой подносил ядра и порох на опердеке, а затем, казалось, прошло навсегда – Дойли даже слегка гордился тем, что сохранил, в отличие от многих других мальчишек в той же должности, свой острый, как у кошки, слух. Теперь же было куда хуже, чем после целой канонады над самым ухом: Эдварду мерещился снова и снова тот единственный выстрел, обмякающее в футе от него истерзанное тело, и мысль о том, что все это зверство продолжается на верхней палубе, казалась невыносимой.
Но, как бы плохо ему не было, Эдвард почему-то ни на секунду не задумывался о том, чтобы пойти в кают-компанию. Почти целый час он сидел, скорчившись на грязных бочонках, понемногу даже перестав прислушиваться к доносившимся сверху проклятиям, крикам боли и периодически раздававшимся выстрелам. При всех своих недостатках, Дойли отнюдь не был глуп; и разум его, очистившись от ужаса и необходимости постоянно ожидать чужих распоряжений, понемногу начинал действовать…
***
– И тогда вы придумали какой-то план, – спокойно, без особых эмоций выслушав его рассказ, даже по прошествии лет порой ужасавший самого Эдварда яркостью воспоминаний, предположила Эрнеста. Мужчина с вымученной усмешкой пожал плечами:
– Не совсем… У меня не было ни малейшего сомнения в том, что добром это не кончится.
– Но вы все равно рискнули, – задумчиво возразила Морено. Эдвард кивнул:
– То… то, что было – продолжалось до вечера. В живых осталось меньше половины, когда капитан велел загнать пленных в трюм и сказал, что продолжит на следующее утро. Офицер, который должен был руководить ночной вахтой, был не слишком усерден к работе и не стал возражать, когда я предложил поменяться. Я дождался темноты: часовые уже почти засыпали, нужно было постоянно их одергивать, но я этого делать не стал…
***
Взять ключи от карцера из кают-компании оказалось удивительно просто: у Эдварда даже не дрожали руки, когда он, усиленно изображая расслабленный и сонный вид, отвечал на приветствия остальных офицеров, уже ложившихся спать, рассеянно шаря по столу якобы в поисках своей трубки. Спрятав в рукав тяжелую связку, он небрежно закурил, пожелал всем доброй ночи, вышел вон и лишь тогда запоздало осознал, что упустил свой последний шанс отказаться от задуманного. Холодные ключи мерзко оттягивали руку, впивались в ладонь острыми зубцами и пахли солью и медью – точь-в-точь как разлившаяся после выстрела по палубе кровь; Эдвард вздрогнул и прибавил шагу.
Сторожили пленников всего двое конвоиров – ни одного из них Дойли не знал в лицо, но теперь это было к лучшему: меньше волнения и страха убить. Первого, долговязого и с рябым глуповатым лицом, он оглушил одним коротким и верным ударом по затылку, второго – тот обернулся, но не успел вскрикнуть – сгреб за грудки, зажав рот ладонью, и быстро, резко направил кулак в чужую челюсть. Хруста кости не послышалось, однако незадачливый часовой обмяк мгновенно; убедившись, что оба они дышат, Эдвард стянул с себя шейный платок, разорвал пополам, соорудив два нехитрых кляпа, оттащил обоих подальше от двери и связал между собой найденным тут же обрывком веревки. Должно быть, пленные по возне за дверью догадались, что происходит: когда Дойли вошел внутрь и приблизился к клетке, они уже были на ногах, во все глаза рассматривая своего нежданного спасителя.