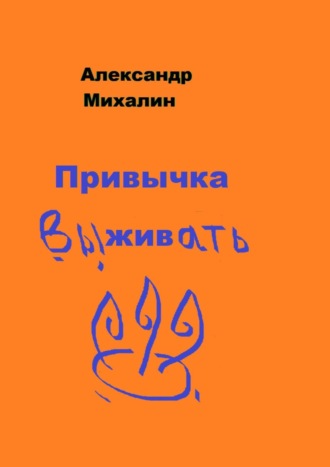
Полная версия
Привычка выживать

Привычка выживать
Александр Михалин
© Александр Михалин, 2023
ISBN 978-5-0051-5743-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Привычка выживать
Повесть.
От автора
Думается, что для автора и для читателей (если таковые окажутся) будет лучше, если признать всё здесь рассказанное выдуманным, не происходившим в действительности, а любые совпадения с реальностью – случайностью. Мне очень хотелось написать этакую фразу. Нравится, как она выглядит, воплощённая в словах на экране монитора. И вот – написал.
1
Они рассматривали меня. С подозрением и сарказмом принимали к сведению мои джинсы и клетчатую рубаху навыпуск. Я рассматривал их. Белые рубашки, воротнички и строгие галстуки мужчин. Оглядывал белые блузки женщин. Вверху расстегнуто не более одной пуговки. У сидящих в первом ряду юбки закрывают колени. Шариат дресс-кода.
Обитатели оплота финансовых глубин. Население замка финансовой твердыни. Рабочие пчёлы банковского улья. Рой служащих. Они и гудели, подобно сдержанному рою. Я поднял руку. Гул упал к моим ногам ворохом обломанных крылышек.
– Полагаю, вы все хотели бы выжить, – сказал я.
Воспоминание.
Мы с отцом едем в вагоне метро. Мне десять лет. Отец, видимо, полагает, что со мной уже можно обсуждать серьёзные вещи, что я пойму. Возможно, он не ошибается.
Папа показывает мне знак над противоположным сидением в вагоне. Нарисован маленький красный огнетушитель:
– Там под сиденьем лежит огнетушитель. И не только. Там ключ, чтобы открывать двери между вагонами.
Поезд метрополитена – шумен. Папа рассказывает, склонившись к самому моему уху:
– Самое страшное в вагоне метро – пожар. Бывает очень много дыма. Больше всего смертей зафиксированно от удушья. Статистика. Чтобы спастись, надо достать ключ, открыть дверь и перейти в соседний вагон.
Я тянусь к уху отца и спрашиваю:
– А если и в соседнем вагоне пожар? Если весь поезд горит?
Отец смотрит на меня внимательно, он, судя по всему, доволен, что я задал этот вопрос. Потом отвечает:
– В каждом составе есть вагоны с кабинами машинистов. Где-нибудь в середине состава. В каждой такой кабине, используется она или нет, есть самоспасатель – прибор автономного дыхания. Минут на сорок-сорок пять. Чтобы иметь шансы выжить, надо взять ключ, отпереть нужные двери, пройти в вагон с кабиной, войти в кабину и одеть маску самоспасателя. Дальше действовать по обстоятельствам.
Поезд прибывает на конечную станцию. Пассажиры покидают вагон. А меня отец удерживает:
– Не спеши.
В опустевший вагон входит женщина в форме – дежурная по платформе, строго смотрит на нас:
– А вы, граждане?! Выходим, выходим!
– Одну минуточку. – Отец вынимает служебное удостоверение, показывает дежурной, и тут же спрашивает, – Стоянка?
– Тридцать секунд, – бойко отвечает дежурная.
– Успеем, – говорит отец.
Он поднимает сидение там, где на стене изображён маленький красненький огнетушитель и показывает мне в углу отрывшегося ящика огнетушитель, а рядом, заложенный за специальную скобу – ключ, открывающий все вагонные двери.
Мы с отцом выходим на платформу, подходим к первому вагону, к кабине машиниста. Отец стучит в стекло кабины и вновь показывает своё удостоверение, а потом говорит машинисту:
– Продемонстрируйте-ка самоспасатель.
Машинист кивает и вынимает из шкафчика, похожего на аптечку, самоспасатель: пустую резиновую голову с круглыми стеклянными глазами, с коробкой клапанов вместо рта и носа, с хоботом рифленого шланга и небольшим синим баллоном на конце недлинного хобота.
– Спасибо, – говорит папа, и мы уходим.
Потом, когда мы уже поднимаемся по эскалатору, отец говорит мне:
– Главное – выжить. Когда наступает кризисная ситуация, грозящая гибелью – узнай её. Если сомневаешься – считай, что она наступила. И сосредоточься на том, чтобы выжить.
Конец воспоминания.
Итак, я стоял у кафедры в небольшом, но вместительном конференц-зале центрального офиса одного из крупных банков. Зал заполняли офисные работники младшего и среднего уровня. Они смотрели на меня, они обсуждали меня, и всё же чего-то ждали от меня. Их внимание, сходившееся на мне, было таково, что они сразу же смолкли, стоило мне поднять руку.
И я сказал им, не выдав своей внутренней полуулыбки:
– Полагаю, вы все хотели бы выжить в критической ситуации, которая может возникнуть в этом здании. Критическая ситуация – ситуация угрозы жизни. В вашем здании такая ситуация вполне возможна. Три высоких этажа. Лифтов нет. Возможность установить аварийные лифтовые кабины для всех сотрудников – отпадает. Это плохо. Но лестницы широкие – это хорошо.
Подумав, я снизошёл до некоторой степени пояснения:
– Любое здание – это ловушка, потенциально несущая смерть тем, кто в нём находится. В нём может быть сколько угодно тепло, сухо, удобно. Но стоит случиться пожару, землетрясению, взрыву, химическому задымлению – и здание становится смертельно опасным. Потому что имеет свойство гореть, задымляться, рушиться. И выход тогда один: как можно скорей покинуть эту ловушку. В случае, когда возникает критическая ситуация.
Я подошёл к белой демонстрационной доске и нарисовал на ней чёрным маркером жирную единицу, обвёл её кругом и, не скрывая жизнерадостности в голосе, объявил:
– По расчётам это здание можно покинуть за минуту. Всем вам. Будем проводить тренировки. И из окон будем прыгать. Со специальным оборудованием, конечно. После тренинга ваши шансы выжить в случае возникновения критической ситуации значительно возрастут. Значительно.
2
На следующий день они прыгали из окон. Учились «обезьяним» приёмам спасения самих себя.
Они доставали из тумбочек, расставленных по второму и третьему этажам, большие матерчатые оранжевые цилиндры, похожие на диванные пуфы. Крепили специальные карабины за скобы ниже подоконников и выбрасывали оранжевые цилиндры за окна. Цилиндры в полёте раскручивались, расправлялись в трубы, ударялись концами о землю и надувались на земле обширными страховочными подушками.
Офисная братия, широко расставив локти, весело прыгала в оранжевые трубы, плюхалась на тугие звенящие подушки, как на детских надувных городках, выкарабкивалась, довольная приключением. Мужчины издавали индейские боевые кличи. Некоторые женщины визжали. Все сотрудницы женщины нарочно одели брюки. Прыгать из окон всем явно нравилось. Лишь парочка каких-то неизбежных неудачников умудрилась получить вывихи: потери минимальные.
А перед этим они учились покидать здание по сигналу тревоги. В течении расчётной минуты. По лестницам. По двум широким – основным. И двум узким, боковым – аварийным. Они дружно шаркали по ступеням, переговаривались, даже пересмеивались – создавали тот самый человеческий гул снявшегося с места людского роя.
Едва раздавался сигнал, они двигали стульями, срывались с рабочих мест, как школьники, убегающие из классов на перемену. На аварийных лестницах они были особенно похожи на школьников: старались держаться парами, по двое на ступеньку: так эффективней, так я их инструктировал. На третий раз почти получилось уложиться в минуту. Секунд десять я простил. По крайней мере они теперь знали, как это делается, как происходит немедленная организованная эвакуация.
А ещё раньше, в самом начале «рабочего дня», меня принимал в своём кабинете начальник службы безопасности банка. Для «согласования действий». Хоть мне, в сущности, нечего было с ним согласовывать. Крепкий пожилой мужчина вращался в кресле, не вставая с которого делал чай, угощал, «налаживал отношения»:
– Пейте, настоящий чёрный байховый. Не какой-нибудь… Приятели шлют из Средней Азии.
У него наверняка было полным-полно приятелей. Друзей – вряд ли. Не те были глаза. А он, оказывается, когда-то знавал и моего отца:
– Достойный человек. Отличный специалист. Мы, тогда ещё молодёжь, с него пример брали. Учились… Да… Как быстро время-то летит…
Воспоминание.
Мне снова десять лет. Мы с отцом едем в троллейбусе. Отец ведёт меня к местам между средней и задней дверьми и показывает на три сиденья слева, ближе к проходу:
– Запомни: эти места самые безопасные. И то место, на котором мы стоим. Такова статистика несчастных случаев. Статистику вели у нас и в Греции: там используют такие же троллейбусы нашего производства. Люди на этих местах почему-то всегда выживали. Во всех авариях, при пожарах и даже в единичном случае взрыва.
Через пару остановок мы садимся: папа – на самое безопасное место у прохода, я – на место рядом, у окна. И отец рассказывает мне, как правильно группироваться перед неизбежной аварией, перед столкновением, которого не может не случиться. Как складываться, если сидишь. Как приседать, если стоишь. А потом, когда мы уже почти выходим, отец говорит мне:
– Пойми, выживание – это вопрос эволюционный. В основе его – умение приспосабливаться и умение правильно реагировать в критической ситуации. Выживает не тот, кто сильней – заблуждение. Выживает и побеждает в эволюционной борьбе тот, кто лучше приспосабливается. Человечество создало себе искусственную среду обитания с совершенно особенными опасностями. В условиях искусственной среды обитания существует своя особенная система эволюции. Выживает тот, кто знает и умеет, тот, чьё знание и умение стали привычкой.
Я слушаю отца, я не уверен, что всё понимаю, но плотно укладываю его слова в копилку памяти.
Конец воспоминания.
Начальник службы безопасности банка, когда-то знавший отца, продолжал быть дружелюбным. Он, вероятно, уже и меня зачислил в густые ряды своих приятелей. Частые штабеля. Мне было всёравно, я слушал почти молча.
– Позитивная у вас деятельность.
Я пожал плечами.
– Но, с другой стороны, вам учения – нам заботы. Когда офисы опустеют, компьютеры останутся включёнными. А нам приходится за ними приглядывать. Моим сотрудникам. А то ведь… мало ли что… Проникновение… А там – деньги… Большие деньги…
Я думал о том, что начальник службы безопасности умеет говорить как-то неестественно. Но в приятельской оболочке. Я поставил чашку и засобирался уходить. Он как-то преувеличенно вздохнул:
– Да, пора.
– Начнём сейчас, – ответил я. И снова подумал о том, что глаза этого человека совершенно не те, не сочетающиеся с ним самим, живущие своей, другой, не зависящей от происходящего жизнью. Спокойной и холодной. У человека с такими глазами не может быть друзей. И я ушёл.
По пути к пульту аварийной сигнализации я размышлял о своих собственных глазах: вероятно, и мои глаза такие же, нерасполагающие к дружбе. Но мне это было совершенно безразлично. Я только улыбнулся. Самому себе.
3
В выходной день я мог забывать о всякой «позитивной деятельности», она же – «бизнес», «работа», «дело» и так далее. Мог возвращаться в «естественную среду». И вот, я бежал по лесной дороге в шестидесяти километрах от «неестественной среды», от «искусственной среды» города. Бежал от загородного дома к озеру, чтобы это озеро переплыть. Туда и обратно. Всего пятьсот метров брасом. Бежал три километра до озера, чтобы потом, поплавав, пробежать три километра от озера до дома. Бежал и наслаждался. Лесом. Августом. Мягкой землёй под каждым моим шагом. Безлюдьем. Возможностью молчать наедине с самим собой. Предвкушением той наполняющей усталостью, которая – я знал – наступит, когда вернусь с пробежки домой и встану под тёплый душ.
Воспоминание.
Пять лет тому назад. Мы празднуем. Именно тут, рядом, в моём загородном доме. Я, мой друг и пять девушек по вызову. Больше никого. Мы отмечаем победу моего друга. Он – очень, очень талантливый программист. Может быть даже гений. Или кто-то вроде того. Во всяком случае, он написал гениальную программу. Итог работы трёх лет. Именно окончание труда мы и празднуем. Ведь настоящая же победа.
Мы пресыщенны шампанским и сексом. Его усталый язык заплетается, но он уже в сотый, наверное, раз говорит, повторяя одно и то же:
– И понимаешь, лицензировать нельзя! За такое сразу посадят! И никто никогда не узнает, какой я… гений… Обидно, понимаешь… Произведение искусства, а не программа… Но зато она нам с тобой столько бабла притащит – хрен вообразишь! Мы компаньоны. Всё! Всё поровну… Без тебя ничего… Ничего бы не было… Но ты не сомневайся: что вложил в меня… В нормальном смысле слова… Гы-гы… Всё-вернёшь… Тысячи процентов навара! Тысячи тысяч процентов! А ведь без тебя ничего бы не было. Ничего… Спасибо, друг… Три года… Всю жизнь за меня вписываешься… Спасибо…
Действительно, ни о каком лицензировании, о какой-то легализации или простой известности новорождённой программы не могло быть и речи. А вот рассуждения о тюрьме имели под собой все основания. О программе должны были знать только мы двое. По воле моего друга программа родилась хищницей, грабительницей, паразитом и болезнью. Весь её смысл, вся суть сводилась к тому, чтобы проникнуть и украсть. Деньги. Для хозяина. Или хозяев. Нет, всё-таки – для хозяина.
Он говорит: «Всё поровну». Уже в сотый раз. А я чую, остро ощущаю в себе: не хочу поровну, не хочу никакого дележа.
Конец воспоминания.
Лесное озеро лежало среди поросших соснами песчаных всхолмлённостей глубоким следом невообразимого великана по имени Ледник, медленно прошагавшего здесь сотни тысяч лет тому назад. Раздеваясь, я видел сквозь прозрачную воду отрядик славных окуней, обходивший дозором берега, видел водоросли, песок дна – всё до глубины метров трёх-четырёх. Дальше не проницалась голубая темень. В центре озера глубина метров двадцать. Потому-то вода так прозрачна: вся муть и грязь оседают на глубокое дно и остаются в неподвижности, не взбалтываются ничем.
Потом я плыл по плотной приятно-холодной воде. И в такт дыханию спокойно думал о том, что сделав то, что сделал, я доказал своё преимущественное право на выживание в искусственной человеческой среде. Само озеро хранило это доказательство в себе, на глубине двадцати метров. Там, в вечной тьме, на озёрном дне лежали останки тела, пустая оболочка, когда-то вмещавшая моего друга, всю его наполненность жизнью, всю его возможную гениальность программиста. Моего единственного друга.
4
Генеральный директор банка не станет, как школьник, спускаться по аварийной лестнице в парочке за ручку, допустим, с вице-директором, торопливо перебирая ступени шагами. Он не станет прыгать с гиканьем в оранжевую матерчатую трубу, топорщась локтями, чтобы звонко плюхнуться потом на дутый мат. Потому что ему так не годится. Генеральному директору банка нужна солидность даже в спасении от опасности. И я делал ему совершенно особенное предложение:
– Система эвакуации. Похожа на лифт, но не лифт. Не имеет вращающихся элементов, тросов, приводов – всего того, что могло бы перекосить, закусить, заклинить, оборваться. Надёжность. Капсула-кабина опускается силой собственной тяжести. Первоначальный импульс придаёт заряженная пружина. И, в отличие от лифта, у системы нет общих конструктивных элементов со зданием. Прислоняется к стене, а не встраивается в стену. Дом рухнет, а она останется стоять. Собственный каркас. Вот так это будет выглядеть архитектурно.
Я подал банкиру диск. Он вставил его в компьютер, открыл и стал смотреть. А я тем временем продолжал рассказывать:
– Вполне вписывается в стиль вашего здания. И потом, расположение не на фасаде – у задней стены.
Мне не нужно было стоять за спиной или рядом с банкиром, чтобы пояснять то, что он видел на экране монитора: я знал демонстрационный ролик наизусть. К тому же, в стёклах очков генерального директора отражались и мелькали крошечные картинки, такие невнятные, что я их скорее угадывал. Но угадывал удачно. Я продолжал сидеть на своём месте, смотреть в глаза банкира, точней, в стёкла его очков, и ровным голосом говорить:
– Вы входите в кабину капсулы. За вами опускается и блокируется дверь. Вы уже находитесь в надёжно защищённом месте. Но затем капсула начинает движение по направляющим вертикально вниз и опускается в неглубокий тоннель. В тоннеле она движется по слегка наклонной горизонтали, отъезжает от здания на десять метров минимум и останавливается. Вскрывается люк, вы выходите на поверхность. Эвакуация завершена.
– Впечатляет. А сколько людей вмещает эта… капсула?
– От трёх до двадцати. Но если мало, можно установить вторую систему, спаренную.
– Нет, нет. Обойдёмся одной. На пятнадцать-двадцать… пассажиров.
Я улыбнулся про себя. Сделка совершалась. Генеральный директор начал смотреть ролик заново. Опять в стёклышках его очков замелькали картинки. Его вопросы и мои ответы ушли в область технических и денежных цифр. И наконец, мы с генеральным директором встали и пожали друг другу руки. Он сказал, что надеется на наше сотрудничество в будущем, а возможно, и в других филиалах банка.
Представление о будущем.
В тот самый миг, когда диск раскрывал своё содержимое в компьютере генерального директора, хищная программа переползла в систему компьютера, разделилась на бессчётное число зародышей, спряталась в укромных уголках, свернулась незаметными калачиками, притаилась, прикинулась полезными составляющими малоиспользуемых функций. И теперь каждый раз, когда генеральный директор будет со своего компьютера входить в денежные системы банка, программа станет атаковать. Мягко. Неощутимо. Как пыль носимая ветром. Как лёгкий налёт на хозяйских командах.
Роями крошечных, но самостоятельных частиц программа начнёт проникать сквозь защитные толщи используя каждую щелку. А если не найдёт ни одной трещинки – проделает их сама, как вода точащая камень. И при каждом включении программа будет проникать всё дальше и дальше всвятая святых, в промежутках таясь на перифериях или на виду, подобно хамелеону, и наращивая силы.
Пройдут недели, месяцы, может быть год или полтора. Уже и первопричинный диск покроется пылью в дальнем углу шкафной полки. Уже и генеральный директор забудет, что когда-то жал мне руку. Но в один обыкновенный рабочий день одна-единственная молекула программы доберётся до главной командной зоны и раскроется, и выстрелит одним-единственным приказом. В то же мгновение вся программа самоуничтожится, выполнив своё предназначение.
Поднимется бесшумный вихрь из сорвавшихся с места десятков, а может даже сотен миллионов виртуальных денежных единиц и полетит кочевать по миру банковских счетов, заметая собственные следы, чтобы потом понемногу осесть на моих счетах, превратиться в реальные деньги. Придут мои агенты и переложат денежные кипы с места на место, окончательно обрубив все концы.
И никто ничего не узнает. И никто обо мне и не подумает.
Конец представления о будущем.
Улыбаясь ответно генеральному директору банка, я в тысячный, миллионный раз встретил на поверхности моего сознания мысль о том, что любое, даже самое дорогостоящее выживание – всего лишь отсрочка того момента, когда пустая оболочка, совсем недавно до этого содержавшая жизнь, ляжет истлевать в толще пустоты.
5
Моя слабость? Моё поражение? Вопрос для каждого шага навстречу. А шёл я на встречу с ней.
Моё стремление к ней – мой изъян? Я спрашивал себя, а в это время в цветочном магазине мне продавали в красивое услужение букет – для неё. И в другом магазине снимали с верхней полки коробку конфет – её любимых. А я? В её жизни я тоже любим? Или без всякого «тоже», просто любим?
На фасаде её дома жили странные лепные ангелы: только красивые равнодушные лица и крылья. Я открыл высокую дверь её подъезда. Третий этаж, шесть пролётов, девяносто ступеней. И мысль о том, что если бы я вдруг – вдруг? – исчез из её жизни, то конфеты, пожалуй, в ней остались бы. Точно остались бы. И стихи обязательно остались бы. Её стихи. Она умеет ловить в нигде и овеществлять словами бабочки стихов.
Воспоминание.
Солнце, солнце, солнце льётся на широкую веранду. Убежавшие от кленовых листьев солнечные зайчики перемигиваются друг с другом на плетёных стульях, столе, диванчике, на её плечах, на крышке ноутбука со знаком надкушенного яблока, на голубеньких цветах-колокольчиках в высокой вазе.
– Пойдём на озеро, – говорю я, – До обеда успеем искупаться.
– Подожди, сейчас закончу, – отвечает она, продолжая усеивать белёсость экрана чёрными буковками. А я смотрю, смотрю, смотрю, прорисовываю в душе её профиль.
Она пишет стихи. Потом читает их мне. Изредка смущённо запинаясь. А я сажусь на корточки, кладу голову ей на колени, целую ладони. И не слушаю. Почти совсем. Но мысль, которую она зарифмовала и поймала в ритм – остаётся. О ней можно сказать, и я говорю:
– Хорошо.
– Правда?
– Правда. Хорошо.
Мы идём к озеру. Она, как девочка, держит мою руку за два пальца. Оранжевые шорты, оранжевые шлёпанцы на босу ногу, оранжевый топик, оранжевая заколка в волосах, апельсиновый загар на животике и улыбка, улыбка, улыбка – она сама моё солнышко. Я целую щёчку божества с ямочкой, как трепетный язычник.
Мы разговариваем, легко и не задумываясь над словами, уносимыми тёплым безветрием. Я что-то говорю не так. Кажется, что-то вроде:
– Если бы ты даже не писала стихов, а просто вышивала. Крестиком. Я всё равно тебя люблю.
Она роняет мои пальцы, поднимает руку, щёлкает заколкой – волосы падают. Чёрные с чёлкой. Загадочные. Она прячет глаза за тёмными очками. Солнышко заслоняется тучкой. Она обиделась.
Конец воспоминания.
Тучки случались. Размолвки. Удаления друг от друга. Каждый раз я шёл сдаваться, просить прощения. Потому что я знал, что она ждала этого. Всегда.
Три этажа, шесть лестничных пролётов, девяносто ступеней остались позади. Моя слабость? Моё поражение? Мой изъян? Звонок над дверью что-то поёт. Она открыла сразу, будто ждала с той стороны. Ждала, когда я приду. Её улыбка играла ямочками на щеках.
– Прости меня.
Последний шаг. Я целую её, как трепетный язычник – божество. И шепчу в ушко:
– Моя слабость. Моё поражение.
Представление о будущем.
Хоть это невозможно представить.
Так не может продолжаться вечно. Ничто не продолжается вечно. Когда-нибудь удаление друг от друга окажется таким, что последнего шага не хватит. И я не увижу её улыбки. Божество устанет прощать язычника. Когда-нибудь.
Не останется ни слабости, ни поражения, ни изъяна.
Она переживёт. Время, наверное, и впрямь лечит.
И я – выживу.
Конец представления о будущем.
Она взяла мою руку за два пальца и вела меня, как мальчишку, за собой. Мне хотелось, хотелось, хотелось такой вечности. Больше всего в жизни.
6
На той стороне широкой набережной, на которой не стояло домов, а только жил океан, атлантические волны набегали на берег, ложились тяжёлыми животами на гранитные валуны и бетонные плиты, вздымались на дыбы гривастыми копнами сияющих в солнце дня брызг. Солёная водяная пыль перелетала набережную, оседала на окнах кафе серебристым налётом. Белокурый парнишка – настоящий бретонец – смывал соль со стёкол широким скребком, но, понимая всю бесперспективность своего труда, совершенно не торопился, то и дело отвлекаясь на разговоры со знакомыми, проходившими мимо. И паренёк, и прохожие были одеты в прозрачные полиэтиленовые плащи с поднятыми капюшонами. Всё и все: люди плащиках, ясность дня с голубизной неба, солнечный дождь океанских брызг, мокрый и блестящий асфальт набережной, столь же мокрая листва деревьев – на взгляд изнутри кафе всё казалось какой-то весёлой декорацией, очень мирной, даже растворяющей зрителя в умиротворении.
Мы с сестрой сидели в кафе у окна и пили ещё более умиротворяющий коньяк. Она смотрела в окно, равнодушно щурясь, курила трубку с длинным-предлинным, прямым, тоненьким чубуком и каждый раз, когда втягивала, вдыхала дым, шрам на её щеке становился узеньким-узеньким, почти исчезал. Она пила коньяк, как и курила, редкими и глубокими затяжками, а если в разговоре проскальзывало что-то вроде тоста или просто: «Будь здоров!» – катила пузатый бокал по щеке ладонью, коротко опрокидывала содержимое в рот кивком головы назад и прокатывала бокал на половину оборота дальше. Она пила по-мужски. Моя старшая сестра. Единственный близкий родственник, оставшийся в живых.
Воспоминание.
Мне пятнадцать лет. Мы с отцом в больнице. Навещаем мою сестру. Я сижу на стуле, у меня на плечах наброшенный белый халат, я сложил руки меж колен и слушаю. Отец расспрашивает сестру. А она вся в бинтах. Спелёната в кокон. Её нога огромна в гипсе и висит над кроватью. Я почти пугаюсь размеров её ноги. Две недели тому назад моя сестра нарвалась на взрыв и зачищающий перекрёстный огонь. Она была в группе оперативного обеспечения. Из всей группы выжила единственная она, одна из двенадцати оперативников.



