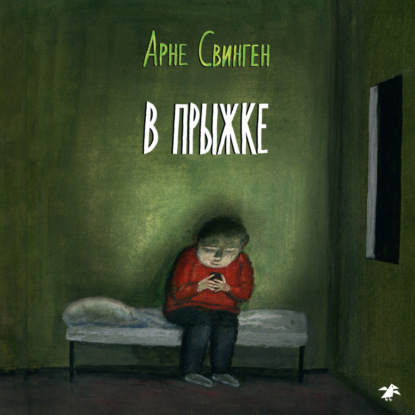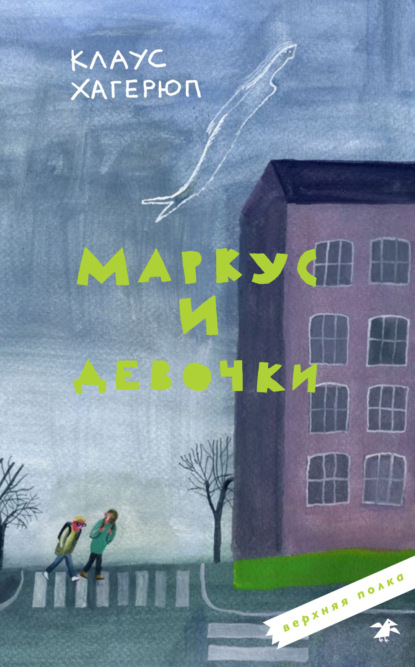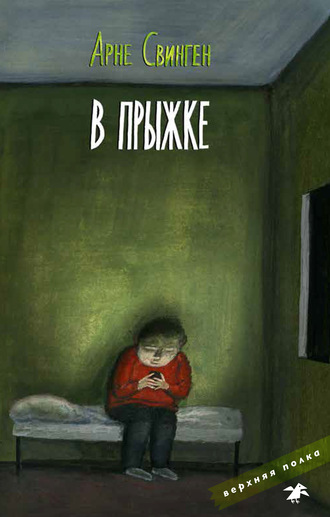
Полная версия
В прыжке

Арне Свинген
В прыжке
Arne Svingen
Midt i svevet
© Gyldendal Norsk Forlag, 2018 [All rights reserved.]
© Анастасия Наумова, перевод, 2020
© ООО «Издательство Альбус корвус», издание на русском языке, 2020
Глава 1
Пижамные брюки были мне коротки. Только прежде я этого не замечал. Штанины едва закрывали колени. А ноги скоро в кроссовки перестанут влезать. Правда, сейчас я стоял босиком на ледяном, как каток, полу.
Посреди ночи меня мало что способно вытянуть из-под теплого одеяла. В доме холодно и темно, и я, как правило, до самого утра из кровати не вылезаю. Но сегодня мне приснился странный сон. Наверняка не скажешь, но сон этот показался мне каким-то… чересчур настоящим, что ли.
Напрягаюсь и прислушиваюсь. Папин голос звучит странновато, пускай даже его едва слышно. А вот маму слышу хорошо – она испуганно просит кого-то прекратить. Что именно прекратить, непонятно, но она настаивает. Повторяет громче, так что голос ее с легкостью преодолевает путь до моей спальни. Обычно, когда все уже легли, они даже телевизор не смотрят, а тут такое. А сейчас кричит Бертина. Негромко. Даже не крик, а скорее отрывистый вопль, какой выходит, когда хочешь сдержаться, но не получается.
Я случайно бросил взгляд на зеркало, которое мама когда-то повесила по моей просьбе. В комнате темно, но я смог рассмотреть отражение. На фотках выгляжу получше. А сейчас глаза выпучены. Верхняя губа подползла к самому носу. Спина сгорблена.
Оттуда, снизу, слышен еще один голос. Звучит он, словно у говорящего чулок на лице. Возможно, так и есть. А еще этот мужчина говорит с такой злостью, какой я сроду не слыхал. По телевизору иногда показывают всяких злобных дядек, я тогда закрываю глаза и думаю о морских черепахах.
Считается, что со страху все черепахи втягивают голову в панцирь, но морским такое не под силу, сколько бы ни пытались. Все опасности они вынуждены встречать с открытыми глазами и гордо поднятой головой. Морские черепахи каждый год проплывают по несколько тысяч километров, однако яйца откладывать всегда возвращаются на тот пляж, где сами появились на свет. В них словно навигатор встроен.
Вот папа крикнул. На моей памяти он, кажется, ни разу еще не кричал. Разве что если «Манчестер Юнайтед» забил или ему повезло выиграть в лото. Он ведь не станет жаловаться, даже если руку вывихнет. А сейчас папе явно больно. Человек без лица взревел. Потребовал, чтобы папа что-то рассказал, но тот вроде как не понял, о чем речь. А папа не из тех, кто будет прикидываться.
Я уже взрослый. И ничего я не дрожу, просто когда вот так вскакиваешь посреди ночи, немудрено и продрогнуть. Не исключено, что, сделай я пару шагов, мои заледеневшие пятки застучали бы по полу. Но этого никто, скорее всего, не услышал бы – так они там, внизу, расшумелись. Теперь незнакомец спросил обо мне, и мама сказала, что я заночевал у друзей, хотя на самом-то деле вот он я, стою посреди комнаты. У Юакима уже недели три не бывал.
Похоже, надо торопиться. Я быстро шагнул к двери, стараясь не наткнуться на разбросанные предметы, выскользнул в коридор. На полу в родительской спальне валялось скомканное одеяло. Я направился к гардеробной, или, как мама ее называла, волшебному шкафу. Это такая гардеробная, куда можно войти, то есть почти отдельная комната. Тут развешана одежда, обувь расставлена, прямо как на выставке, а на вешалках красуются папины рубашки. Сюда, в шкаф, крики почти не долетали. Если прикрыть дверь, вообще ничего не услышишь.
Внизу стояла подставочка, папе она была не нужна, но мама ею пользовалась, когда лазила на верхнюю полку. Я точно знаю, в какое место стоит ее пододвинуть. И тогда точно дотянусь куда надо.
Сперва я случайно задел рукой ботинки, но они не упали. А коробка оказалась тяжелее, чем я думал. Вытаскивать ее разрешено только папе – это правило я усвоил. Ловко подхватив коробку, я попятился задом и спустился вниз. Подошел к двуспальной кровати и поставил коробку на простыню.
Открыл я ее с величайшей осторожностью, после чего вытащил содержимое, старательно копируя действия папы. Обхватил рукоятку, и рука моя сразу же показалась невероятно маленькой и хилой, хотя с прошлого раза пальцы у меня выросли и в длину, и вширь. Впрочем, на глаз толком не сравнишь. Я вытащил маленькую тяжеленькую коробочку из картона и достал оттуда семь железяк. Вставил их внутрь, надавил. Я уже не дрожал, хотя бояться было чего.
Внизу что-то упало. Обычно по ночам всегда уйма времени. А вот сейчас его почти нет. Я вышел из спальни в коридор. Услышал, как в гостиной папа кое-что сказал. Лучше бы я этого не слышал.
Я спускался по лестнице, держа револьвер.
Глава 2
Стул оказался колченогим. Бывает и хуже, конечно. К тому же на этом можно покачиваться взад-вперед, а такое всех бесит. В школе и у столов, и у стульев ножки разной длины, словно нарочно бракованную мебель заказывают. Но сейчас думать о школе как-то глупо. Той ночью я много о чем не желал думать. А вот о черепахах – запросто.
Из тысячи морских черепашат вырастает лишь один. Если ты вообще умудрился родиться, то шансов на долгую черепашью жизнь у тебя один на тысячу. Ну, и даже если тебе повезет вырасти, то какие-нибудь придурки наверняка выловят тебя и сварят из твоего мяса суп. Из панциря сделают чашу для фруктов. А из кожи сошьют перчатки. Мир несправедлив, это я усвоил, и, по-моему, больше всего от этого страдают морские черепахи.
Стул почему-то перестал качаться. Кто-то положил мне руку на спину. Нет, не погладил, а просто положил. Это мамина рука, я знаю. Мама почему-то молчит – видно, сейчас лучше не говорить. Интересно, роди она тысячу детей, из которых только я и выжил бы, – любила бы она меня тогда сильнее? У них с папой с двух попыток получились мы с Бертиной, и они вряд ли планируют еще 998 детей.
В коридоре появилась какая-то женщина. Она предложила маме отойти в сторону – переговорить с глазу на глаз. Говорили они тихо, до меня долетали только отдельные слова или даже обрывки слов, совершенно бессвязные. Куда хуже, чем вообще ничего не слышать. «Обсудим», «непросто», «постарайтесь», «получится», «знать», «соболезнования». Может, я просто не мог сосредоточиться – время-то было позднее, а я по ночам спать привык. Вообще-то поздно или рано, я не знал, но в конце коридора было окошко, и солнце за ним еще не вставало.
Бертина растянулась на двух стульях. Судя по всему, заснула, однако наверняка тоже не скажешь, потому что обычно спит она беспокойнее. Я бы на ее месте слегка подрыгивал ногами и дышал глубоко-глубоко, чтобы никто не сомневался, что я вижу десятый сон, и не дергал бы меня.
Подойдя, женщина спросила, не уделю ли я ей время. Отказываться было нельзя, но и «да» я не сказал. Лишь молча двинулся следом. Я посмотрел на маму возле стены, однако она отвела взгляд. Лучше бы ей присесть.
В кабинете у женщины висел календарь с разными знаменитыми картинами. Во всяком случае, раз уж они попали в календарь, значит, знаменитые. Впрочем, нарисовать их мог кто угодно, даже я. Женщина предложила мне сесть, и этот стул уже не качался. Сама же она расположилась за столом, на котором возвышалась стопка документов, валялись ручки и стоял монитор, такой здоровенный, что и для игр подойдет.
Женщина слегка наклонилась и спросила, как я себя чувствую. Знаю, ответа она не ждала. К тому же глаза у нее были как буравчики, и меня потянуло выскочить за дверь, хотя понятно – от подобного никто в восторге не будет.
– Мы тебе поможем, – пообещала она и умолкла.
Когда слюны во рту не осталось, глотать приходится воздух. И похоже, от этого воздуха я вот-вот раздуюсь и лопну. Но вот если нечего сказать, выход как раз есть – кивать. Вроде как я слушаю. И не возражаю. Просто говорить не особо расположен.
Кажется, она поняла, что сказать мне нечего, потому что снова заговорила. Но я то и дело терял нить – во мне словно канал переключали. На миг я вспомнил о черепахах. Кстати, зря, надо бы поменьше о них думать. Я ведь за всю жизнь вообще ни одной морской черепахи не видал. А путешествую я редко, так что вряд ли и увижу. В тот единственный раз, когда довелось уехать подальше, увидел я много, даже слишком, но черепах не встречал. Ту поездку тоже надо бы пореже вспоминать.
– Банан хочешь?
Я хоть и не спал, но будто проснулся. О чем она только что спросила?
– Или лучше апельсин? – она полезла в сумку. – А, нет… апельсин я съела. Остался банан.
Она протянула его – слегка побуревший, но не настолько, чтоб нельзя было съесть. Я вечно хожу голодный, однако сейчас покачал головой. Женщина, похоже, слегка расстроилась и уже собиралась банан убрать, но тут я протянул руку. Губы у нее растянулись в едва заметной улыбке – не потому, что ей хотелось быстрей избавиться от банана, просто она решила, будто мы на одной волне.
Банан я взял, но чистить не стал. Он лежал у меня на ладони, похожий на унылый полумесяц. А потом я вдруг вспомнил, как мы с Юакимом, когда были совсем маленькие, играли в войнушку, и бананы у нас были вместо пистолетов. Мы играли до тех пор, пока оружие не превратилось в кашу. Из него полезла мякоть, и мы в ней вымазались. Мы облизали пальцы, взяли груши и, отрывая черешки, принялись кидать друг в дружку, будто гранаты.
– Такого никому не пожелаешь пережить, – проговорила женщина.
А что, неужто есть список того, что пережить непременно требуется? Вот это, мол, пережить надо непременно, а вот это и это нет, ни в коем случае, такого никому не пожелаешь, ни за что на свете. Я-то считал, что жизнь – это всякие события, которые нельзя предсказать. Но, может, я ошибаюсь.
У женщины зазвонил телефон, она извинилась – сказала, что надо ответить. Я разжал руку, банан упал на колени. Тогда я слегка подался вперед. И еще чуть-чуть. Вскоре я почти сполз со стула. Банан свалился на пол. Когда фрукты похожи на орудие убийства – это плохо.
Пока что я не сполз со стула целиком, но это вопрос времени. Теперь, когда я оказался ниже, женщина выглядела слегка иначе. Подбородок у нее был более массивный, типа птичьего зоба. «Да», «нет», «ладно», – отвечала она кому-то на том конце. Мне, наверное, следовало бы поинтересоваться, что именно этот кто-то говорит, потому что женщина то и дело поглядывала на меня. Если хорошенько прислушаться, можно было различить в трубке невнятное бормотание. Болтал ее собеседник много, однако женщина ограничивалась тремя словами – «да», «нет» и «ладно». Искренне ли она говорила, понять было трудно. Люди вообще вечно врут, хотя даже себе в этом не признаются.
Но про себя я той ночью точно знал – соврать не получится. Поэтому языком чесать надо было поменьше.
Немного погодя женщина отложила телефон в сторону.
– А сейчас, Дидрик, нам надо серьезно поговорить, – сказала она. – Обо всем, что произошло.
Глава 3
Иногда школа казалась маленькой и тесной, как обувная коробка. А мы, получается, втиснутые в нее ботинки – ждем, когда хоть кому-нибудь понадобимся. Пока мы все тут лежим, происходящее за пределами коробки нас совершенно не тревожит. Хотя, может, у меня мозги набекрень, вот я и сравнил школу с коробкой, но тут уж ничего не поделаешь.
Сегодня я остановился у ворот, и, не появись рядом Юаким, я, возможно, повернул бы назад. Он спросил, как жизнь, и прозвучало это так, словно ему и впрямь не плевать.
Да, надо было хотя бы сообщение ему отправить. Но как бы я написал это самое сообщение, если у меня не хватало слов? Вот и сейчас та же история – я ответил: «Хорошо», и мы оба прекрасно поняли, что это не совсем правда. Мы стояли в зоне отчуждения, между школьной оградой и дорогой, и мне хотелось обнять Юакима. Нет, не обниматься, а быстро обнять, чтобы он и внимания не обратил. Но вокруг нас полно народа, так что я решил этого не делать. Сейчас я мог много чего еще сказать, а не только «хорошо», однако я сомневался, что успею до звонка.
Юаким сказал, что оно и хорошо, если все хорошо. Может, он прав. Только я-то ему наврал. Мы стояли возле школы и улыбались – двое лучших друзей, которым нельзя ничего скрывать друг от друга, но которые все равно врут.
– Ну что… пошли? – предложил Юаким.
Всё вокруг будто превратилось в фотографию, на которой люди смотрят в одну и ту же точку. Интересно, все те, кто на меня пялились, это понимали? Я не отрывал взгляда от главного входа и думал лишь о том, чтобы не споткнуться. Стоило мне войти внутрь, как действительность за моей спиной вновь ожила. К тому же прозвенел звонок. Впрочем, меня он не спас, потому что прямо передо мной выросла фигура директрисы.
Директриса предложила мне пройти за ней. Отказа она вряд ли ждала. Юаким сказал, мол, еще увидимся, а мне захотелось ответить – «надеюсь», потому что никогда не знаешь, что случится потом. Вообще-то мне разрешили прогуливать школу ровно столько, сколько приспичит, но если когда-нибудь мне все равно надо туда вернуться, а насовсем оттуда не уйти, какая разница? Можно и прямо сейчас вернуться. Не совсем же я дурак.
В последнее время меня то и дело таскали по разным кабинетам, так что теперь я точно знал – все они выглядят одинаково. Уютными их не назовешь, даже если стены от пола до потолка увешаны детскими рисунками.
Директриса слегка наклонилась вперед и положила руки на аккуратную столешницу. Прежде я не замечал, но передний зуб у нее неровный, будто ей когда-то заехали по нему кулаком или просто не поставили вовремя брекеты. Может, у нее была бурная юность? Впрочем, судя по ее разговору, это вряд ли. Может, такие, как наша директриса, посещают специальные курсы? Их там учат разговаривать с моими ровесниками так, будто мы – отдельная человеческая раса, с которой и разговаривать-то можно лишь одним-единственным способом?
Время от времени я кивал и даже не думал о черепахах. Директриса ведь хотела, чтобы у меня было все хорошо. По крайней мере, так она утверждала. И с моей стороны сомневаться было бы некрасиво. Но все равно казалось, что беспокоится она о школе и боится, как бы я чего не натворил. Отныне я отличаюсь от остальных учеников. И такие как я вызывают у директрисы опасения.
– Ты как? – спросила она.
– Хорошо.
Когда двое разговаривают, это называется «беседа». Наверное, мой ответ – вот это вот «хорошо» – на нормальную беседу не тянул, но я хоть попытался. Директриса продолжила говорить, а я так усердно кивал, как будто отбивал ритм. Наверное, я мог бы кое-что ей объяснить, но это вряд ли бы помогло. В конце концов она умолкла и проводила меня обратно в класс.
Там все замерли, совсем как до этого – во дворе, а я, сосредоточившись, направился к своей парте. И тут произошло неожиданное. Уж не знаю, кто начал первым, но точно не Юаким. Они захлопали. Громко и оживленно. Как делают, когда хорошо сыграешь на музыкальном инструменте или произнесешь удачную речь.
Это мне они хлопали. И ничего удивительного, что я тут же наткнулся на чью-то парту. Учитель явно ходил на те же курсы, что и директриса. Он заговорил о том, как важно друг о дружке заботиться и что порой некоторым из нас приходится в жизни нелегко. И еще оказалось – он очень рад, что я так быстро вернулся. Хотя, по-моему, он все бы отдал, уйди я в другую школу. Я не мог больше держаться – пришлось думать о черепахах. К счастью, вскоре все занялись уроком, и теперь можно было размышлять о чем хочешь. А на доску я вообще не обращал внимания.
Казалось, будто вопросы к учителю были у всех, кроме меня. Я повертел пенал, наточил карандаш, стер со столешницы какие-то каракули, уставился на облака за окном.
Вообще-то время летит довольно быстро. На перемене мы с Юакимом уселись прямо посреди лестницы и мешали учителям ходить. Но нас никто не гнал. А некоторые ученики, которые сроду с нами не здоровались, говорили «привет». Две девочки тихо переговаривались, украдкой поглядывая на меня. Наша одноклассница Гина предложила мне йогурт, но я отказался, хотя йогурт люблю. Проходя мимо, дежурный учитель, с которым я ни словом не перемолвился, хлопнул меня по плечу.
Юаким спросил, не хочу ли я пообщаться после школы. Он, похоже, намекал, что сейчас мы с ним вроде как на сцене сидим. Мне больше всего на свете хотелось поболтать с Юакимом, и я согласился. Однако у меня может и не получиться. На этой перемене мы с ним почти все время молчали.
Кажется, раньше такого не случалось. Я сидел, уставившись на камушек под ногами, и мечтал, чтобы быстрей прозвенел звонок. Чтобы остаться на перемене в классе, нужно особое разрешение, и тем не менее в конце концов я поднялся и вернулся за парту. Обратно на улицу меня никто не прогонял.
Глава 4
Нам сказали, чтобы мы чувствовали себя как дома. Но у Берит и Карла было совсем иначе, чем у нас. Когда я сел посмотреть телевизор, Карл попытался настроить его и подключить к DVD-проигрывателю, но получилось у него как-то коряво. Я решил помочь, однако Карл сказал, что лучше ничего не трогать.
Кто вообще сейчас смотрит DVD-диски? Я попробовал смотреть телепрограммы по интернету, но интернет тут был только в тех комнатах, где мне ну никак не хотелось сидеть. Были настольные игры, вот только играть было не с кем.
Я пошел на кухню, и Берит соорудила мне бутерброд. Настояла, что сама нарежет хлеб, – сказала, что хлебный нож новый и невероятно острый. Мама была рядом и смотрела в окно, в сад. В последнее время она только этим и занималась, хотя там ничего такого не происходило. Вот она резко повернулась и посмотрела на меня. Я даже жевать прекратил. Лицо у нее изменилось – такого я прежде не видал. У нее будто что-то вдруг заболело. А затем она вышла из кухни. Организм у меня вечно голодный, даже когда я прошу его потерпеть. Но сейчас бутерброд с вареньем вдруг сделался невкусным. Берит мне еще три ломтя хлеба отрезала, но я их, наверное, не осилю.
Прямо посреди просторной кухни возвышалось сооружение, которое они называли островом, хотя больше было похоже на лодку. На ней стояли варенье и масло. Я подумал, что бутербродов с меня хватит. Убрал нарезанный хлеб и масло с вареньем в холодильник. Лучше дождаться ужина, а ужинать я бы пошел к Юакиму – мама у него так готовит, что ей бы поваром в каком-нибудь шикарном ресторане работать. Берит с Карлом уже два дня подряд заказывали пиццу: может, ленивые, а может, просто готовить не умеют.
Я пошел в гостиную и спросил маму, можно ли мне к Юакиму. На каком автобусе добираться, я знаю, и вернуться постараюсь не поздно. Мама с по-прежнему несчастным видом ответила, что лучше мне остаться тут. Почему лучше, не уточнила. Я сказал, что мы собирались вместе делать уроки, – пускай это и неправда – и придумал еще десять, а то и двенадцать причин. Но успел сказать только про уроки.
– Дидрик, хватит. Ты же и сам понимаешь, что ехать тебе нельзя.
На самом деле я этого не понимал. Но никуда не поехал. Я вообще почти ничем полезным не занимался. Сидел на диване, листал журнал, поглядывал на пульт и все гадал, есть ли у них в доме DVD-диски. На кухне мама о чем-то тихо разговаривала с Берит, но я даже отдельных слов не разобрал. Все почему-то говорили едва слышно. Даже Бертина, которая прежде не знала, что такое шепот, теперь шептала.
Я лег на диван, но снова поднялся. Опять лег и вновь поднялся. Лучше посижу. Тут наверняка на диване и лежать-то нельзя. Так же, как нельзя класть ноги на журнальный столик в гостиной, ставить стакан на стол, предварительно не подложив под него что-нибудь, или есть, не накрыв колени салфеткой. В гостях вообще редко чувствуешь себя как дома – именно потому, что ты не дома. А домой мы еще какое-то время не вернемся.
Когда наутро после той жуткой ночи я поехал туда за вещами, меня сопровождала одна женщина, которая заявила, что я долго копаюсь. Я даже не сразу решил, какие взять трусы. Дверь в гостиную была закрыта. И пахло там, дома, иначе.
У Берит и Карла на стенах висели картины, но что на них изображено, понять было нельзя. Еще у них стояла большая дорогая ваза, которую надо было обходить за несколько метров. Зато кровать в тесной комнатушке, куда нас втиснули вместе с Бертиной, оказалась куда лучше той, что была у меня дома. В этом я убедился ночью, когда не смог заснуть.
– Тебе надо костюм примерить, – сказала мама, остановившись на пороге.
– Потом примерю.
– Нет, сейчас.
Я встал и поплелся переодеваться, а мама смотрела мне вслед.
Глава 5
Вот я смотрю на солнце, а папа поднимает пистолет, так что оружие находится между мною и солнцем. Эта картинка вспомнилась, когда я лежал в комнате, где совсем не хотел находиться. Как будто фотографию вспомнил, хотя никто в тот момент не фотографировал. Возможно, папа тогда решил мне показать, как отлично он вычистил оружие.
Помню, папа рассказывал, что кольт существует с 1836 года – именно тогда Сэм Кольт получил патент на первый в мире револьвер массового производства. Папин кольт был почти новый. Потом папа спросил, чем револьвер отличается от пистолета. Я уже со счету сбился, сколько раз отвечал на этот вопрос, однако повторил: у револьвера патроны вставляются во вращающийся барабан, а у пистолета – в патронник. Папа считал, что я молодец, и, возможно, поэтому взял меня тогда с собой в лес. Он так долго мне это обещал, что я уже перестал верить. Маме мы об этом не рассказывали.
Отец говорил, что полное название револьвера – «армейский кольт одинарного действия», и протянул мне его так, словно тот был сделан из золота. В моей руке дуло казалось длиннее, а рукоятка была холодной, хотя папа только что сжимал ее в своей руке. Если верить папе, существовало больше тридцати различных калибров, а этот – сорок пятый. Калибр связан с размером патронов. Папа говорил про оружие, ставшее классическим, о вестернах и «Миротворце» Дикого Запада, он сыпал именами и датами, а я пытался вспомнить, что весит так же, как и револьвер. И решил, что некрупная черепаха.
Я целился в деревья и кусты, и мне казалось, будто я стал старше. Барабан был рассчитан на шесть патронов. Папа пока еще револьвер не зарядил, но как раз собирался – хотел поднатаскать меня в стрельбе, хоть я и думал, что еще слишком мал и мне нельзя. Вообще-то, если уж делать что-то, что мне еще не по возрасту, то я бы лучше научился водить мотоцикл или пить пиво. Но папа всегда обожал кино, где героев хлебом не корми – только дай друг дружку изрешетить, причем желательно, чтобы они еще сидели верхом на лошадях и были в широкополых шляпах. Однажды я застал отца, когда тот, глядя в зеркало, делал селфи с револьвером в руке.
– Все мужчины знают, как обращаться с оружием, – говорил он. – Пока не научишься, ты, считай, и не мужчина.
Папа взял у меня кольт и, один за другим, вставил патроны. Он показал, как возвращать барабан на место, и я несколько раз повторил за ним. Потом папа стрелял в мох и деревья. Грохот стоял такой, что у меня в ушах зазвенело. После он ласково посмотрел и сказал, что пришла моя очередь.
Пострелять мне всегда хотелось, но я не знал, что при этом бывает такой грохот. Может, стрельну разок – и хватит? Отец показал, как правильно обхватить пальцами рукоятку, сказал, что от револьвера будет отдача – он словно захочет ударить меня по лицу. Сперва надо ухватиться за рукоятку покрепче обеими руками, прищурить один глаз, спокойно прицелиться и лишь потом нажать на курок. Внезапно оружие у меня в руках потяжелело, так что целиться получалось только в землю, поэтому я опустил револьвер и спросил, не лучше ли будет немножко повременить со стрельбой. Папа очень редко усмехался, но сейчас на губах у него заиграла хитрая улыбка, означающая, что мне не отвертеться, пускай даже руки у меня совсем слабенькие.
Я снова прицелился. Револьверу и правда вздумалось ударить меня по лицу, а в ушах страшно загромыхало. Но зато я выстрелил, а потом еще раз, и папа назвал меня настоящим стрелком. Вскоре, потеряв счет, я истратил все патроны в барабане, тогда папа зарядил револьвер заново. На этот раз он взял сухие веточки и воткнул их в землю, слева – самую толстую, а справа – совсем тоненькую. Прострелив три самые тщедушные веточки, папа передал револьвер мне. Я прицелился в самую толстую, но трижды промазал.
Мой папа вряд ли смог бы получить приз за терпение. Однако когда мы стреляли, он не торопился – показывал, как правильно держать руки и голову, и чуть приподнимал пальцем дуло револьвера. Главное – сосредоточиться. Сохранять спокойствие. Правильно прицелиться. Встать в стойку. И следить за сердцебиением. Хорошим стрелком стать непросто.
Мне никогда не справиться. Руки обмякли, стали словно картофельное пюре, и я вдруг вспомнил про маму – она-то сейчас наверняка голову ломает, куда мы запропастились. Папа снова зарядил револьвер и поправил мне руки. Показал, как правильно встать в стойку. Велел сосредоточиться. Ну вот, пора. Я положил указательный палец на курок. Прищурил один глаз. Мысли из головы улетучились. Я вдохнул так глубоко, что готов был лопнуть. Впереди торчали веточки – неподвижные, они словно издевались надо мной.