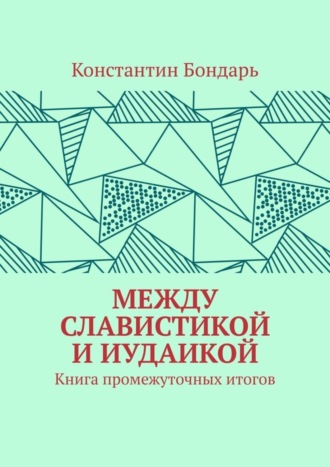
Полная версия
МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов
И заканчивалась сценка неизменным добродушным смехом… Дед привык говорить о неизбежном с юмором и не усложнять чрезмерно предмет. Его жизненный опыт, как и у всех его ровесников, вмещал такие свидетельства, что недооценивать их не приходилось. Тем не менее, ответ на вызов судьбы всегда был ободряющим.
Михаил Бондарь прожил намного дольше, чем пророчили доктора и чем сам он предполагал. Наверное, его дни продлились для того, чтобы он мог быть рядом с любимыми и любящими. На чувства он был щедр, и люди отвечали ему тем же – близкие, друзья, студенты, даже соседи. Надо сказать, что среди его коллег и знакомых, среди своих университетских преподавателей, друзей нашей семьи я встречал нескольких человек, похожих на моего деда. Это были люди, которые могли ценой постоянной работы над собой стать как будто больше самих себя. Но с дедом я жил рядом, и для меня его пример неповторим. Дедушка не был ученым, хотя по складу ума и широте кругозора вполне мог им быть. Он не был писателем или философом, хотя вся его жизнь прошла в размышлениях. Себя он называл «старым учителем», и в этом была своя правда. Он был хорошим учителем и умел «нести что-то людям», как он любил говорить. Я бы добавил, что он был книжником в старом, почти забытом значении этого слова – он знал и любил книгу, разбирался в книгах и с любовью их собирал. Он был хорошим читателем и собеседником, но главное – он умел слушать. Но что же, в конце концов, остается людям? Думаю, вот что. Хотя его девизом можно считать слова: смысл жизни – в ней самой, он парадоксальным образом всегда брал на полтона выше житейского разговора. Обремененный, как всякий взрослый человек, заботами, горестями, хворями, дед не позволял им взять верх над собой. Об этом говорил перед смертью Пушкин (а нам передал Жуковский: «…»), и именно это свойство делало присутствие деда источником утешения. смешно же, чтобы этот вздор меня пересилил
– писала бабушка в юбилейном стихотворении к 75-летию деда. На этом юбилее я пожелал себе быть таким же дедом для своих внуков, каким он был для меня. Что ж, будущее покажет. А через десять дней деда не стало: он ушел из жизни так, как хотел, – почти внезапно. И мне кажется, что, удаляясь со временем, его фигура становится не меньше, а больше.
В бой вздымала команда «В ружье!»
Иль несли минометы в гору —
Одного я не ведал в ту пору:
Где находится сердце мое…
– А сколько было тому деду?
– Не знаю, лет семьдесят…
– А, семьдесят?! Так что ж ты хотел?!
«…тебе лишь замены не будет вовек,
Еще не родился такой человек!»
М. С. Бондарь. Последняя фотография. 1997 г.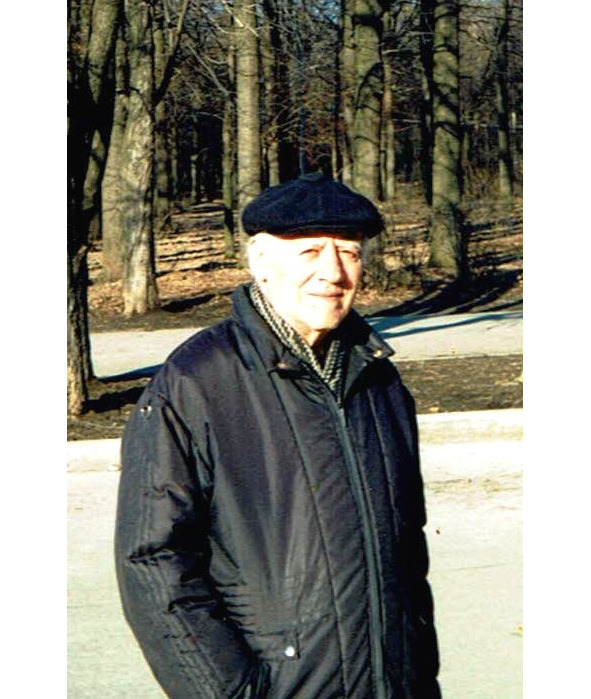
Встреча с Учителем. Профессор Широкорад
Осенью 1989 г., напутствуемый бабушкой и дедушкой, я стал студентом русского отделения харьковского филфака, не вполне представляя себе, в чем же, собственно, заключается профессия филолога. «Ты будешь работать со словом!» – предрекал мне дед. На первых порах это пожелание было путеводной нитью. Но освоение новой реальности затянулось: на первом и втором курсе студенчество мое было, по сути, школярством. Я исправно получал хорошие оценки, но так и не преодолел наивного прекраснодушия. На третьем курсе это привело к затяжному кризису, разрешившемуся только годы спустя, после окончания университета, с расширением круга интересов и знакомством с новыми людьми. Тогда же, осенью 1991-го, нам, студентам III курса, предстояло выбрать специализацию, записавшись в научный семинар. И вот здесь, на пути к «взрослой» науке, меня ожидала первая судьбоносная встреча. Замечу, что выбор семинара, действительно важный для дальнейшей профессиональной жизни, в те наши девятнадцать-двадцать лет многим казался не слишком значительным. Я же отнесся к нему со всей серьезностью. Особенность научного семинара состояла в том, что занятия в нем обязательно приводили к подготовке дипломной работы, а также предопределяли специфику государственного экзамена при выпуске: специализация в лингвистическом семинаре предполагала экзамен по истории русской литературы и наоборот – «литературоведы» сдавали весь курс русского языка. Чем руководствовались студенты? И тем, что, как им казалось, будет проще сдавать на V курсе, и тем, кто из преподавателей объявлял набор в семинар и какие темы предлагал. Были бесспорные фавориты, например, профессор А. Д. Михилев с кафедры зарубежной литературы с его темами по модернизму, современной французской, английской и американской литературе, или доцент В. А. Маринчак с кафедры русского языка, отец Виктор, который уже тогда преподавал историю языка и культуры как духовно-символическую и мифологическую реальность. Были и другие семинары, ведущих которых я знал и уважал как своих учителей: семинар Л. А. Быковой («Ложные друзья переводчика: русско-польские параллели») или Г. М. Зельдовича («Русские временные квантификаторы» – тема, по которой он через несколько лет защитил докторскую диссертацию). У этих преподавателей я попробовал позаниматься несколько раз, но, в конце концов, отказался от предложенных тем, как и от темы по лингвистике текста, которой я немного тогда увлекался. Шли недели, а я все еще оставался без семинара и без научного руководителя. Как это часто бывает в жизни, дело решила случайность или, вернее, не сразу оцененная по достоинству деталь. Моя сокурсница Оля Пащенко, не задумываясь, выбрала семинар, который вела профессор кафедры русского языка Ефросинья Фоминична Широкорад, поскольку ее мама, выпускница 1972 г., была дипломницей Ефросиньи Фоминичны. Однажды Оля между делом рассказала мне об этом семинаре. До этого я не был знаком с профессором Широкорад, но в преддверии выбора семинара один важный разговор у нас состоялся: мы пришли к ней вдвоем с моим другом Олегом Ковалем, который учился тогда на II курсе, но был охвачен серьезным научным поиском. Надеясь на встречу с «настоящим ученым», мы попросили Ефросинью Фоминичну проконсультировать нас. Мы хотели получить у нее ориентиры в изучении санскрита, который, начитавшись Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова, считали достойным для исследований предметом. Разговор быстро пошел в другом направлении, почти неуловимом для меня, но что-то услышанное и воспринятое тогда заставило меня прийти к ней еще раз, с тем, чтобы уже более не уходить.
Решение учиться у Е. Ф. Широкорад появилось по нескольким соображениям: и тяга к истории языка и славянским древностям, которую я почувствовал еще с первого курса, после лекций Виктора Андреевича Маринчака по «Введению в славянскую филологию», и ее обаяние, которое не сразу, постепенно открывалось в общении с ней. Это было обаяние безыскусной правды, надежности и какой-то глубокой, органичной доброжелательности. Вместе с тем, у нее была репутация строгого и взыскательного педагога; идти к ней учиться решались немногие. В конечном итоге нас осталось пятеро. Работа в семинаре строилась индивидуально, с учетом темы каждого студента, а встречи с преподавателем проходили как обсуждение найденных в текстах словоупотреблений, разбор словарных значений и библиографических ссылок. От каждого студента требовалось ведение картотеки, и многие карточки с библиографическим описанием или словарной статьей Ефросинья Фоминична приносила нам сама. В ходе длительных поисков тема работы была выбрана – «Концепт „Чудо“ в языке и культуре восточных славян». После выхода в свет в том же году сборника статей «Логический анализ языка. Культурные концепты» слово «концепт» не сходило с филологических уст; заданное им направление входило в моду. Материал быстро набирался, в основном, за счет этимологических разысканий по слову «чудо» и однокоренных, а также «диво» и его многочисленных образований. Помимо этого, фиксировалось словоупотребление по литературным памятникам, начиная с древнейших русских житий и заканчивая современной беллетристикой; выявлялся массив словарных значений по всем существующим словарям славянских языков. Семинарские занятия продолжались два года, и после них я летом 1994 г. на «отлично» защитил дипломную работу, а еще через несколько лет продолжил работать над этой темой в аспирантуре.
Завершить обучение и представить диссертацию мне в ту пору не удалось, но выбранная как альтернатива окончанию аспирантуры учеба в магистратуре открывшегося тогда Центра иудаики и еврейской цивилизации, в Институте стран Азии и Африке при МГУ, привела меня в Москву. Магистерская программа принесла мне не только новую специальность востоковеда, но и возможность многие годы преподавать любимые исторические и филологические дисциплины в Международном Соломоновом университете. Я освоил новое направление – иудеославику (междисциплинарную область исследования еврейско-славянских контактов), в котором сумел найти свою нишу – повести о царе Соломоне – и впоследствии защитить диссертацию. Все это стало возможным благодаря тому, что в свое время я прошел «школу Широкорад», а Ефросинья Фоминична после нашего официального расставания осталась для меня не только Учителем, но другом, советчиком и собеседником. Я с удовольствием бывал у нее дома, в тесной квартирке на пятом этаже, где она жила одна и где шли наши неспешные разговоры под неизменный растворимый кофе со сгущенным молоком.
«…». В её доме не было признаков старости. Это поражало в первый момент, но потом не удивляло. Даже не замечалось, как её возраст. Вероятно, за этим приходили сюда – за временем, которое не умирает, за историей, которая не кончается
Написанные о другом человеке, эти строки справедливы и по отношению к профессору Широкорад. Изредка Ефросинья Фоминична посещала и наш дом; мы встречались с ней на заседаниях историко-филологического общества, в библиотеке и на конференциях. Я счастлив, что она присутствовала на защите моей диссертации, а после мы отметили это событие в дружеском кругу.
Уйдя на пенсию, она продолжала активно трудиться. Университет и кафедра русского языка торжественно отметили в 2008 г. 80—летний юбилей профессора Широкорад, на котором посчастливилось выступить и мне, а затем опубликовать на основе доклада посвященную Ефросинье Фоминичне статью. На этом же юбилейном заседании выступила коллега и соавтор Е. Ф. Широкорад, Л. М. Черняк, с приветственным словом «Встреча с Радостью», из которого я тогда узнал, что изысканное древнерусское имя «Ефросинья» – это греческое слово «радость». К счастью, жизнь Ефросиньи Фоминичны сложилась согласно с ее именем.
Придя в Харьковский университет девочкой Асей, выпускницей послевоенной школы, в 1948 г., она не покидала его до последнего дня. В юбилейном издании коллеги по кафедре писали:
Жить несуетно и в тихой сосредоточенности – привилегия, данная немногим, ценность которой понимают все меньше. Обдуманная размеренность, дни, наполненные кропотливой работой, скупость в словах и филигранная точность в выборе слов, негромкая, приглушенная речь, недоверие к публичности, неприятие конформизма, нелицеприятность, – все это было знаками неповторимой личности, чудесным и радостным образом оказавшейся моим учителем и собеседником. Своим трудом и жизнью Ефросинья Фоминична бережно хранила филологию, служа ей, но не менее важно и то, что филология сама хранила ее, давая возможность работать, жить интересами науки, поддерживать отношения с достойными людьми и привечать тех, кто нуждался в утешительном слове. А ведь сама она была воспитана своими учителями – Н. М. Баженовым, А. М. Финкелем, В. П. Бесединой-Невзоровой, о которых всегда рассказывала с трепетом. От этих корифеев ниточка тянется уже к дореволюционной науке, к тем, кто слушал лекции самого Потебни. Благодаря трудам Ефросиньи Фоминичны, ставшей еще и историком университета, собраны и сохранены свидетельства научной деятельности многих ученых, чья жизнь прошла в Харьковском университете. Она воспринимала себя как звено в эстафете научных поколений, хотя прямо никогда не говорила об этом. Надо помнить и о том, что Ефросинья Фоминична не делала скидок на чины и положения, не боялась остаться в меньшинстве или оказаться непонятой; больше всего ее заботила справедливость, а ее моральный камертон был настроен весьма точно.
Мы продолжали видеться с Ефросиньей Фоминичной до самого конца. Днем 1 декабря 2010 г., поработав в университетской библиотеке и заглянув на кафедру, она попрощалась с присутствующими и сообщила, что отправляется к родственникам в Шебекино. После этого ее никто не видел, и никому не приходило в голову беспокоиться по поводу ее отсутствия. Но несколько дней спустя ее телефон молчал, а когда коллеги, все же заподозрив неладное, наведались к ней домой, в двери они обнаружили телеграмму от родни, встревоженной тем, что гостья не прибыла…
Обо всем дальнейшем Ефросинья Фоминична, к счастью, не узнала, удостоившись высшей награды ученого – легкой смерти за рабочим столом, в окружении рукописей и книг. Здесь античный афоризм о кончине филолога за работой как нельзя более уместен. Стоя у закрытого гроба в зале крематория, мы слушали о. Виктора Маринчака, который провожал ее последним словом, хотя церковного отпевания не было. «», – говорил оратор, – «». Ученики разного возраста, пришедшие с ней проститься, воплощали цепочку поколений, подтверждая правильность выбора, сделанного когда-то Асей Широкорад. Пусть нет больше маленькой квартиры, от обширной библиотеки остались лишь перевезенные на кафедру словари, а прах ее покоится в Белгородской области, в городке Шебекино, – с нами всегда будет чудо встречи и радость неторопливого общения с учителем о самых важных вещах в жизни. Всю жизнь она работала над собой и умерла в доброй старости, насытившись годами, как библейские патриархи
Как писал У. Оден, «…». И верно, достаточно взглянуть на одну из ее последних фотографий. Здесь она все еще среди нас, лишь на мгновение остановленная объективом фотографа, но глаза уже прозревают иное, и весь ее облик устремлен куда-то за грань неведомого… время… поклоняется языку и прощает тех, кем он жив
«…». как историк русского языка Ефросинья Фоминична оказалась приобщена к научной деятельности, требующей предельной точности знания, четкости научных доказательств, обширного языкового материала. Ее личностные особенности и принципы жизни стали гарантией безусловного профессионализма в области исторического языкознания. Подвижничество, исключительное трудолюбие, добросовестность как органические свойства личности Ефросиньи Фоминичны предопределили и содержание ее жизни, которая всецело была наполнена педагогической и научной работой
Е. Ф. Широкорад. 2010 г. Фото из архива В. А. Глущенко
Историк языка. О чудесах и текстах
Тема научно-исследовательской работы в семинаре Е. Ф. Широкорад вначале была сформулирована как «Противопоставление „свой“ – „чужой“ в истории русского языка». Обсуждая лексическое наполнение этой оппозиции, мы с научным руководителем вспомнили о «чуде», как одной из номинаций в ряду , , и постепенно стало ясно, что смысловой центр всей проблематики состоит именно в изучении «чуда». И вот тогда было решено направить усилия на описание «Чуда» как концепта восточнославянской книжной культуры. чужого чуждого
В фундаментальном труде Ю. С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры» концепт «Чудо» определяется формулой:
Оставалось «одеть» эту гипотезу академика Степанова в одежды конкретных текстов, в первую очередь, евангельских, а затем житийных. Если Ю. С. Степанов допускает ранее не предпринимавшееся учеными сближение «Чуда» с концептом «Слово» (подтвержденное также и этимологией: слав. – «чудо, воспринятое на слух»), то мы предложили следующее толкование «Чуда»: *čudo
Преимуществом такого определения славянского «Чуда» можно считать его рассмотрение как культурной ценности, включенной в широкий круговорот общения.
Христианское понимание «чуда», которое зафиксировано в тексте Евангелий, проникает в восточнославянскую культуру с переводами священных текстов Нового Завета.
В Евангелиях описано несколько десятков чудес, совершенных Иисусом, но при этом они редко обозначаются собственно словом чудо. Это словоможет присутствовать в текстах, и тогда оно выступает как ключ к повествованию о «чуде». Так же редко чудеса называются делами или знамениями. Значительно чаще бывает так, что описанная ситуация не содержит лексических признаков для ее определения как «чудесной». Но, принимая диалогическую модель представлений о «чуде», такие признаки можно заметить, а затем обнаружить их устойчивость и повторяемость.
Евангельские «чудесные» истории обладают следующими признаками: 1
– Ряд обозначений «Чуда» представлен существительными Между тем, редкость появления этого признака говорит о его второстепенности. дела, знамения, чудеса.
– «Чудо», в соответствии с гипотезой о тождественном устройстве концептов «Чудо» и «Слово», возникает во время встречи, контакта и общения двух сторон. Один из участников такого контакта неизменен – это Иисус, всегда названный по имени. Второй – человек, находящийся в кризисной ситуации, требующей разрешения, – болезни или недостатка (слепота, немота, глухота, одержимость бесами). В тексте названо лицо и его атрибут, обозначен признак «объект»: (Мф. 8:14)(Мк. 7:32)(Лк. 14:2). теща, лежащая в горячке , глухой косноязычный , страждущий водяною болезнью 2
– Признак «встреча/установление контакта» описан как просьба, молитва страждущего с использованием глаголов , , ,которые можно рассматривать как описание собственно встречи, а также других глаголов: , , , , , , . Можно говорить об открытости, ожидании чуда как одном из условий его совершения: приступити кланятися поклонитися глаголати зъвати возопити молити отъвещати вознести гласъ возопити гласъмь велиемъ, очистити, помиловати, возложити руку, сънити исцелитъ, помочи 3
«…». Христос, как известно, не мог творить чудеса в Назарете: там никто не ждал от него чуда и не открывался чуду… Христос исцелил женщину, открытую чуду
В то же время есть примеры, когда инициатива в установлении контакта исходит от Иисуса, и в таком случае данный признак выступает как «благорасположение», «предложение изменения»: (Мф. 9:2)(Лк. 13:12) И видя Иисус веру их, сказал… , Иисус, увидев ее, подозвал… .
– Признак «способ/средство воздействия». Этот признак, в свою очередь, состоит из компонентов: «слово к страждущему» (в ответ на его просьбу) со значением«испытание веры»:(Мф. 9:28);«испытание готовности к чуду»: (Ин. 5:6) а также слова с предписанием «восполнить недостаток», выраженным с помощью глаголов: ; и, наконец, «констатация свершившегося изменения»: (Мф. 9:24).Само словесное воздействие Иисуса описано глаголами И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? хочешь ли быть здоров? , очистися, деръзаи, въстани и возьми и иди, не плачися, гряди вънъ, буди тебе яко же хощеши, простьри руку, прозьри ибо не умерла девица, но спит рече, глагола, отъвеща, возгласи, вопроси, возъва.
– Признак «подготовка к чудотворному действию», который реализуется словами: и связан с компонентом «акт чудотворения», получающим повествовательную характеристику: . Сам «способ чудотворства» представлен комбинацией признаков «слово», «намерение» и «действие», но может быть выражен только как «слово» или только как «действие». Иными словами, в каждом конкретном явлении «чуда» реализуется общая модель, но в наборе компонентов того или иного признака концепта, как и в их последовательности, она достаточно свободно варьируется. милосердовати, приступити, приiти, обратитися, видети, разумети, дивитися, возьрети на небо, въздохнути прикоснутися, простеръ руку, въложити перъсты, плинути, сътворити бръние, коснувъ одръ, имъ за руку, помазати очи, возложити руку
– Дополнительные элементы вступления, заставки, диалога между Иисусом и страждущим, представляющие собой замедление в развитии действия:
а) нравоучение: (Мф. 17:17); о, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?
б) обращение к Богу: (Ин. 11:41—42); Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня… чтобы поверили, что Ты послал Меня
в) притча: [] (Мф. 15:26—28) Хананеянка говорила: Господи! Помоги мне. Он же сказал в ответ: не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала: так, Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему .
7) Признак «разрешение кризиса», «восполнение недостатка», «мгновенное преображение», с таким лексическим и синтаксическим выражением:
а) использование слова абие ()(Мф. 8:3); тотчас : и он тотчас очистился от проказы
б) указание на время происходящего: (Мф. 8:13); и выздоровел слуга его в тот час
в) синонимическое, тавтологическое обозначение происходящих изменений: (Лк. 8:55); и возвратился дух ее; она тотчас встала
г) интенсификация признака: (Мф. 8:15). Возможно «восполнение недостатка» в случае двух кризисных состояний сразу: (Мк. 7:35). и горячка оставила ее, и она встала и служила им и тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка
8) Признак «эффект славы», в структуре которого отчетливо выделяется несколько уровней по степени яркости этого эффекта:
а) «удивление», выраженное глаголами (): (Мф. 9:8)и : (Мк. 7:36); чудитися удивиться народ же, видев это, удивился дивитися и чрезвычайно дивились
б) «страх, ужас»: (Лк. 7:16(Мк. 10:24); и всех объял страх ); ученики ужаснулись от слов Его
в) «прославление», которое может выражаться в сочетании с глаголом одной из предшествующих фаз:(Мф. 9:8) или самостоятельно. Отмечаются иные лексические средства с семантическим компонентом «слава»:(Лк. 18:43). народ же, видев это, удивился и прославил Бога и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу
Несомненно, важен для характеристики нашего концепта компонент «вера». Его параллель с «чудом» объясняется развитием «чудесной» ситуации по направлению к пределу, результату воздействия, и этим результатом можно считать «уверование» в творца чуда – Иисуса.
Итак, структура концепта «Чудо» включает как обязательные, так и дополнительные элементы. Располагаются они в определенной последовательности, разворачивая картину чудесного явления. Еще раз представим ее обобщенную модель.
«Чудо» происходит в точке встречи Иисуса и «объекта» в ситуации «кризиса» или «страдания». Болезнь или недостаток «объекта» предполагает его готовность к изменению, необыкновенному контакту («молитва» или «просьба»), но также и «инициативу чудотворца», проявляющего благую волю. Как кульминация действия, происходит «чудесное воздействие» и «преображение», нередко мгновенное, в котором и заключается сверхъестественный эффект. Как следствие этого преображения выступает реакция «прославления» (обратный импульс от человека к Иисусу и самому Богу; «возвращение» той самой «ценности», обмен которой предполагается в общении сторон) и «торжество веры» («спасение»).
Если евангельские эпизоды чудес подобны сценическому действу, в котором событие разворачивается во времени (перед читателем проходят «экспозиция», напряженное «развитие действия», «кульминация», сменяющаяся «овациями» и «занавесом»), то подобная драматургичность подхватывается затем литературой житий святых, что объясняет предлагаемый здесь сюжетный, ситуационный принцип узнавания агиографического повествования о «чуде».
Житийный жанр, кристаллизующийся на христианском Востоке из различных источников, затем проникающий в Европу и на Русь, включает мотив исцеления, превращая его в стереотип, «трафарет ситуации» (согласно Д. С. Лихачеву). Обязательность житийных формул в описании жизни и деяний святого составляет часть агиографического канона: «»; «». раз речь заходит о святом – житийные формулы обязательны, будет ли говориться о нем в житии, летописи или хронографе чудо в житийной литературе – совершенно необходимая составная часть. Только оно вносит движение и развитие в биографию святого
Жития, перенимая пафос новозаветных историй, все же не наследуют этот образец буквально; житийные исцеления происходят более разнообразно, в частности, не только святой, но и его тело (мощи) исцеляет людей. Таковы, скажем, посмертные чудеса Алексея, человека Божия из знаменитого византийского агиографического памятника:



