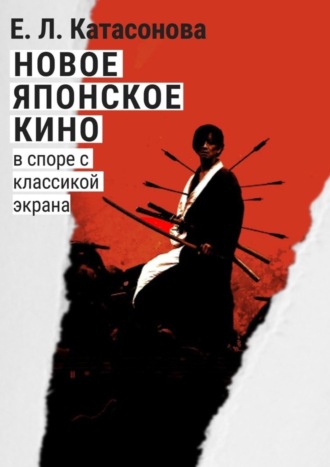
Полная версия
Новое японское кино. В споре с классикой экрана

«Император Томатный кетчуп» («Томато кэттяпу котэй», 1971)
В общем, повсюду царит атмосфера всеобщего безумия и разложения, одна за другой сменяются сцены насилия и мародерства. Значительную часть экранного времени зритель вынужден наблюдать обнаженные тела несовершеннолетних героев и их неумелые попытки заняться любовью в подражании взрослым, причем не столько ради получения удовольствия, сколько ради того, чтобы, наконец, разгадать и этот секрет взрослых, так долго скрываемый от них.
Думаю, что все остальные детали этой картины можно опустить, поскольку и этих описаний достаточно для того, чтобы понять, что Тэраяма создал во многом странный и эпатирующий фильм. Правда, это не мешает некоторым зрителям ставить его в один ряд со знаменитой лентой Вернера Херцога «И карлики начинают с малого» (1970) о революции карликов в южноамериканской колонии. Другие же проводят прямые параллели с картиной «Сало» Пьера Паоло Пазолини 1975 г. (полное название «Сало, или 120 дней Содома»), созданной по мотивам произведений Маркиза де Сада, и другими работами итальянского мастера. Но мало кто из профессионалов признал эту ленту успешной.
Зато представители либеральной молодежи приняли ее «на ура», увидев в ней прямые параллели с происходившими тогда политическими событиями, в том числе и с культурной революцией в Китае. Возможно, именно по политическим причинам, а также из-за обилия в фильме откровенных эротических эпизодов и сцен насилия со стороны цензуры последовали всевозможные запреты на показ картины на большом экране, а вслед за этим начались проблемы с ее прокатом в США и других странах.
Но критика мало тогда волновала самого режиссера. Одухотворенный поддержкой своих товарищей, он окончательно утвердился в мысли о том, что, наконец, пришло его время – время бескомпромиссных художников, и пробует себя в эти годы буквально во всем: и как исполнитель перформансов, и как театральный режиссер и т. д. И сразу же после выхода своей скандальной дебютной картины он решает вынести на суд широкого зрителя один из своих последних театральных спектаклей, созданный совместно с экспериментальной труппой «Тэндзё Садзики». Так родилась идея создания фильма «Бросай свои книги, выходи на улицу!» («Сё о сутэё мати-э дэё!», 1971).

«Бросай свои книги, выходи на улицу!» («Сё о сутэтэ мати о дэё», 1971)
Громкий лозунг, вынесенный в название фильма, отсылает нас к эстетике студенческого восстания, которое потрясло Париж в мае 1968 г. Этим бунтарским духом пропитана вся лента, повествующая о японской молодежи 1960-х гг. Хиппи, секс, кола – все то, чем прославилось это десятилетие, составляет фон происходящих в фильме событий. Картина полна анархических настроений, демонстрирующих всеобщий бунт молодежи против уходящего поколения.
Как и другие картины режиссера, этот фильм посвящен теме взросления человека, осознанию его причастности этому миру и поиску своего места в обществе. Фоном для своей картины Тэраяма выбрал движение ситуационалистов – «ищущей и думающей молодежи», – модное на Западе в те годы. Недаром для названия фильма заимствован популярный ситуанистический лозунг, перекликающийся с другим призывом этого движения: «Выйди на улицу, верни себе город».
Сюжет картины разворачивается вокруг истории юноши из живущей в трущобах неблагополучной семьи, имя которого так до конца и остается неизвестным зрителю. Пытаясь найти свое место в этом мире, он хладнокровно наблюдает за безумием происходящего вокруг себя и окружающих людей – посторонних и своих близких. И в этой психоделической фантасмагории в равной мере перемешано комическое и трагическое.
Чуть ли не с самого рождения главным раздражителем для него не перестает быть его собственный отец, способный на самые омерзительные поступки: ведь именно он отводит сына к проститутке, чтобы та сделала его мужчиной. Когда-то давно этот теперь опустившийся человек был объявлен военным преступником и скрывался от правосудия, а потом, в силу обстоятельств, переквалифицировался в уличного продавца лапши и погряз в беспросветных долгах. Рядом с героем живет его бабушка, страдающая старческим маразмом, но так нуждающаяся в душевном тепле, доброте и заботе со стороны окружающих, что готова пожертвовать ради человеческого сострадания к ней буквально всем, что у нее осталось в этой жизни. Сестра молодого человека, обреченная на мучительное одиночество, отдает всю себя заботе о белом и пушистом кролике, переходя в этой своей любви все грани разумного. А далее следуют страшные кадры, когда группа подонков жестоко насилует ее, вначале садистским образом расправившись с ее любимым домашним питомцем.
Да и сам главный персонаж, пережив множество тяжелых жизненных испытаний, окончательно разочаровывается в людях и не видит смысла в своей собственной жизни. Испытав в очередной раз страшную обиду, он в дикой ярости убегает из дома и оказывается на улице, где встречается со случайными прохожими и попадает в самые непредсказуемые ситуации.
Главная сюжетная канва фильма разбивается короткими рассказами его новых знакомых, которые помогают сложить цельную картину явлений в японском обществе 1970-х гг. Да и весь фильм в целом представляет собой как бы поток воспоминаний, зарисовок, деталей, сцен из жизни в большом городе одиноких подростков. Он рассказывает об их стремлениях и страстях, душевном одиночестве и полном безразличии к собственным привязанностям и родственным связям, наполняя повествование едким сарказмом в отношении всех и всяческих авторитетов и т. д.
В итоге мы становимся свидетелями того, как разбиваются все общепринятые представления о современной действительности, а вместе с тем и о тех канонах, которые всегда существовали в японском кино. «Бросай свои книги, выходи на улицу!» – это манифест целого поколения, которое пришло на смену строгим консервативным японцам и произвело настоящую культурную революцию, открыв миру обновленную безумную Японию.
Почти всегда главный герой в картинах Тэраяма – это подросток, вспоминающий и анализирующий свое прошлое и старающийся примириться с ним. Именно этой теме посвящена одна из главных работ режиссера – фильм «Пастораль. Умереть в деревне» («Дэнъэн ни cису», 1974), ставший классикой японского кино. На него частенько ссылаются как на образец для подражания многие современные мастера. Сегодня эту ленту мы назвали бы откровенной медитацией на тему детства и взросления человека, диалогом взрослого режиссера с самим собой в том возрасте, когда ему было 15 лет. «Иногда мы помним вещи, которых на самом деле не было»14, – провозглашает Тэраяма, осмысливая свое прошлое. И действительно, в фильме проносится целая вереница каких-то сюрреалистических эпизодов и образов, которые вряд ли встречались в его жизни.

«Пастораль, умрем на природе» («Дэнъэн ни сису», 1971)
Здесь и странный по своей причудливости деревенский цирк, и уродливая толстушка, реквизит которой каждый раз нужно надувать для ее выступлений, и застигнутая врасплох парочка, занимающаяся сексом, и др. Но самое главное в фильме – это проносящийся через все эпизоды образ часов, символизирующий собой и прошлое, и будущее одновременно. Не менее интересные и загадочные ассоциации вызывает у режиссера и карта Японии, которая превращается в его фильме в настоящий арт-объект. Глядя на нее, один из героев представляет себе не острова и проливы, а отрубленную голову, занесенный меч и т. д. В общем, все просто и весьма символично одновременно.
Но, наверное, самой необычной режиссерской находкой в этом фильме являются шахматы, в которые он играет с самим с собой, только пятнадцатилетним, ведя диалог о жизни сразу от лица двух партнеров. При этом и Тэраяма, и его альтер эго вспоминают и рассказывают об одних и тех же событиях, которые в силу разницы в возрасте и опыта прожитых лет воспринимаются и оцениваются каждым из собеседников совершенно по-разному.
Тэраяма в этом фильме беспредельно обнажает себя, раскрывая свои тайные желания и стремления. И весьма символично, что во всем этом хаосе воспоминаний и видений каким-то зловещим символом предстает фигура его матери, образ которой практически в каждой из картин режиссера выливается в отдельную женскую тему, часто связанную с «эдиповым комплексом». По-видимому, это одна из тех болезненных и, судя по всему, неразгаданных проблем прошлого, с которой режиссер безуспешно стремится примирить себя на протяжении многих лет.
Надо отметить, что эта картина, как и практически все фильмы Тэраяма, композиционно состоит из нескольких отдельных экспериментальных отрывков, различающихся между собой по стилю и тематике. И этот прием в дальнейшем будет перенесен им даже в короткометражки – весьма поэтичные сюрреалистические ленты, снятые в 1975—1977 гг. Во всех его работах эта бросающаяся в глаза фрагментарность преодолевается за счет богатого арсенала художественных средств, которыми превосходно владел режиссер. Я имею в виду его буйную творческую фантазию, провокационную манеру подачи событий, богатство поэтических ассоциаций, интеллектуальную полемичность в сочетании с оппозицией академизму, пристрастие к ярким визуальным и театральным эффектам, гротескным формам, эротическим настроениям и т. д.
Но, пожалуй, главной отличительной чертой творчества Тэраяма является обращение к фольклорным образам, обрамленным эстетикой сюрреализма. А второй присущий его творчеству мотив – это абсолютное неприятие пережитков феодального общества, что каким-то загадочным образом сочетается в его работах с ностальгией по уходящему в прошлое традиционному укладу деревенской жизни. И, наконец, третья особенность его фильмов тесно связана с не теряющей свою актуальность и по сей день проблемой западного воздействия на японское общество и противоречивого наследия молодежной контркультуры 1960-х гг.
О последней, наверное, стоит поговорить более подробно на примере уже упомянутого фильма «Плоды страсти». Думаю, что нет необходимости подробно останавливаться на сюжете фильма, поскольку он хорошо известен всем любителям кино по фильму «История О». Если кратко – то речь идет о познании молодой иностранкой премудростей сексуального мира и обретения в этом самой себя. Но Тэраяма, конечно же, не мог не внести своих изменений и дополнений в сценарий, перенеся действие картины в Китай конца 1920-х гг., куда приезжает молоденькая англичанка вместе со своим многоопытным немолодым любовником. Их роли исполняют необычайно трогательная Изабель Ийе и как всегда демонический и отталкивающе-притягательный Клаус Кински, кстати говоря, любимый актер уже упомянутого ранее режиссера Вернера Херцога. Именно по его прихоти девушка поступает на работу в японский бордель не ради денег, а ради того, чтобы преодолеть себя и постичь тайный и мистический мир чувственности и сексуальных удовольствий, сохраняя душевную преданность своему возлюбленному. При этом сэр Стивен (так зовут этого героя) стремится не столько проверить прочность ее чувства к нему, сколько заставить героиню всецело отрешиться от своей воли, полностью подчинившись ему.
А далее идет свободная импровизация на тему известного сюжета лишь с тем существенным изменением, что у Тэраяма вообще отсутствует такой главный персонаж романа, как Рене – молодой возлюбленный героини, который постепенно передает ее в руки многоопытному соблазнителю. Здесь же все начинается именно с него, давно постигшего все премудрости страсти. Казалось бы, что героиня будет предана ему всегда, но в конце фильма нарушает свой обет, проявляя нежные чувства сострадания к влюбленному в нее бедному подростку, отчаявшемуся купить ее любовь за деньги. А вдобавок ко всему в фильме неожиданно появляются намеки на политические события тех лет: прокручиваются старые военные фотографии, неожиданно появляются офицеры в японской военной форме, демонстрируются тайные сходки повстанцев, готовящих террористический акт, мелькают зарисовки жизни людей дна – нищего никчемного сброда, спящего на полу в трактире, и т. д. В общем, все говорит о тех маленьких и невинных слабостях, от которых, по-видимому, трудно избавиться самому режиссеру, все еще живущему воспоминаниями своей бурной политической молодости.
И наконец, пожалуй, самое главное, что отличает фильм Тэраяма от его первоисточника: его трудно назвать просто эротикой. Зловещие зеркала в полутемных комнатах со старыми обшарпанными стенами, сохранившиеся на них какие-то пошлые рисунки, висящие цепи, плети – все это больше походит на печальный фарс, чем на эротическую фантазию. А главная идея фильма – это не столько погружение героини в мир чувственных удовольствий, сколько разрушение ее собственного «Я». И на это указывают многие косвенные намеки со стороны самого режиссера: разбитое зеркало, разорванная паутина на ветру, поврежденная старая фотография и т. д.
В картине много и других сюрреалистических деталей: женщина, распятая на зеркале, в котором отражается ее любовник, рояль, играющий в воде, хозяйка борделя – облаченный в красивые женские наряды трансвестит. В целом визуальная составляющая фильма, снятого в откровенной эстетской манере, также удивительна, как и музыка, звучащая за кадром весь фильм, – тихая, в национальном стиле и одновременно волнующая, с какими-то берущими за живое аккордами. И, наконец, великолепная игра актеров – также несомненное достоинство картины. Тэраяма, по существу, превратил хорошо известный эротический сюжет в полноценную психологическую драму, возможно несколько мрачную, но одновременно полную романтических настроений. Так что в реальности зрители увидели совершенно другое кино.
Не менее интересно и конструктивно режиссер поработал и над экранизацией романа Гарсии Маркеса «Сто лет одиночества», сделав по его мотивам свой последний фильм «Прощай, ковчег!» («Сараба хакобунэ», 1984). Строго говоря, это трудно назвать классической литературной экранизацией, но таковую трудно было даже ожидать от такого большого и неординарного художника, как Тэраяма, каждый фильм которого становился радикальным и бескомпромиссным вызовом художественной традиции. И, тем не менее, режиссер смог достаточно бережно и адекватно передать дух великого произведения даже при том, что он изрядно привнес в него авангардную стилистику и сознательно пошел на некоторые изменения сюжетной линии романа. Так, действие своей картины он перенес в небольшую японскую деревушку, пространство которой объединило все происходящее в фильме: секс, насилие, страсти. Правда, потом возникло много серьезных проблем с авторскими правами, но и они в конечном итоге разрешились, и фильм был показан в конкурсной программе Каннского кинофестиваля в 1985 г., уже после смерти режиссера.
Умер Тэраяма рано – в 48 лет (в 1983 г.) – от тяжелого онкологического заболевания, оставив после себя около 200 литературных работ и более 20 фильмов, но это – всего лишь часть из того, что он замышлял, но не успел осуществить. Зато он успел сделать главное – совершить в кино тот переворот, который в молодости стремился осуществить в общественно-политической жизни. А может быть, следует все истолковать ровно наоборот. В своем кино он старался представить то, к чему могли привести все его нереализованные в молодости мечты, полные анархических идей, утопии и юношеского максимализма.
Тэраяма оставил после себя своих последователей, представлявших уже совершенно новое поколение японских режиссеров-авангардистов: Ямамото Масаси, Исии Сого, Цукамото Синья и др. Часть из этих режиссеров пошли дальше своего художественного предшественника, освободившись от его общественно-политического пафоса, но сохранив основной дух его творчества, совместивший в себе анархию, нигилизм и психоделию. Они первыми задумались о наступающем на нас мире машин, механизмов, новых технологий, способных вытеснить человека из земной цивилизации. Одновременно с этим, в их фильмах с каждым годом все более явственно проглядывались и другие новые угрозы и опасности, прежде всего связанные с современными городами, и размышления о необходимости соблюдения тонкого баланса между человеком и технологиями, человеком и его средой обитания, плотью и бетоном. А еще в их картины ворвалась самобытная андеграундная музыка, замешанная на смелой импровизации, шумах заводов, бряцании железа и ломаных ритмах.
Глава ΙV. Музыка андеграунда: урбанистические страхи и звуки ночного Токио в фильмах Ямамото Масаси
О новых урбанистических звуках одним из первых в японском кино заговорил Ямамото Масаси – режиссер, продюсер, сценарист, актер. Наверное, таков уж удел независимых режиссеров, работавших и ныне продолжающих работать в малобюджетном кино. То ли в силу своего таланта, то ли из-за недостатка средств, а скорее всего, по причине того и другого, они сразу же становятся своего рода многостаночниками в искусстве, совмещая в одном лице сразу несколько кинематографических профессий.
Но не только этим, но и многими другими моментами своей биографии Ямамото напоминает своих коллег по ремеслу. Как и другие, он увлекся кино еще в юношеские годы, и все началось с покупки 8-миллиметровой камеры. А потом, как и у других, была учеба в престижном университете – в старейшем частном университете Мэйдзи, и получение профессии, которая, несомненно, значительно раздвинула его горизонты познания мира, но никогда не пригодилась ни в жизни, ни в творчестве. В общем, по всем параметрам – типичный представитель японского независимого кино 1980-х.

Ямамото Масаси (род. в 1956)
Его кинематографическая карьера началась в 1981 г. с успешного дебютного показа ленты «Ночные развлечения» («Ями-но канибару») – во многом экспериментальной и весьма эксцентричной. В 1983 г. этот фильм демонстрировался на Берлинском кинофестивале и был хорошо принят европейским зрителем, а затем – в Нюрнберге на местном кинофоруме под названием «Урбанистические ландшафты». Всем тогда понравился этот яркий эмоциональный и очень необычный режиссер, который впервые рассказал о жизни японской молодежи, живущей вне рамок традиций и моральных норм общества, и сделал это интересно и талантливо.
В фильме широко представлен национальный колорит и показано много запоминающихся картин страшного социального дна современной Японии. Но картина не только и не столько об этом, главный ее лейтмотив – это музыка ночного Токио. А посему Ямамото как представитель авангарда, несомненно, выбирает музыку в стиле андеграунда.
Фильм начинается в цвете, демонстрируя яркие краски оживленного района Синдзюку, пребывающего в лучах солнца и в шуме машин, а также громких криков торговцев, предлагающих свой товар. Но постепенно камера переключается на показ узких мрачных улочек, одна из которых как бы случайно приводит нас в маленький панк-клуб. В это время на сцене выступает красивая стильная певица по имени Куми в сопровождении своего маленького коллектива панк-музыкантов. Но немногочисленные посетители бара, лениво развалившиеся на диванах, проявляют мало интереса к ее пению. Куми завершает свою программу и направляется за кулисы, а ее музыканты сразу же переключаются с искусства на прозу жизни, шумно обсуждая, где бы раздобыть травки для поднятия настроения. Тем временем один мерзкий тип затевает шумную ссору в баре, и дело доходит до драки. В общем, – повсюду мерзость жизни, никак не соответствующая тому, к чему стремится Куми. Она мечтает о признании: ей нужен свой слушатель, свои поклонники, готовые вместе с ней восхищаться непривычной, малопонятной и бескомпромиссной, но так ею любимой авангардной музыкой.
Но как отыскать этих людей, где найти хоть какую-нибудь импровизированную сцену, стоя на которой, она могла бы петь для них? У героини для этого нет ни средств, ни времени, ни связей. Молодая женщина разведена и одна воспитывает сына. И чтобы, наконец, найти себя в этой жизни, в своем творчестве, ей не остается ничего другого, как отправиться в поисках своей мечты в опасные «гастроли» по улицам ночной столицы. И только одно обстоятельство может нарушить ее планы – это беспокойство за сына. Но и эту проблему женщина быстро решает, договорившись со своим бывшим мужем о том, что он позаботится о мальчике в течение нескольких ближайших дней.
Любопытно, что бывший муж в кино – это реальный бывший муж актрисы и ребенок тоже – настоящий общий сын этой пары, даже имя героини позаимствовано у самой певицы Ота Кумико, сыгравшей эту роль. Ямамото стремится быть верным правде во всем, даже, казалось бы, в таких не столь существенных деталях. Но, кстати говоря, именно деталям режиссер всегда уделяет особое внимание, считая, что «кино – это ложь», а «настоящая правда заложена в деталях»15. И в этом мы убеждаемся сами, наблюдая за тем, как разворачиваются все дальнейшие события, связанные с героиней, от которых ощущение реальной жизни еще больше усиливается.
Режиссер сознательно подробно показывает, как Куми переодевается и выходит на улицу, закрыв за собой дверь. И вместе с ней зритель оказывается в совершенно другом, мрачном и безжалостном мире, познавая невидимые окружающим неприглядные и даже страшные стороны действительности. При этом фильм сразу же становится черно-белым, и все в окружении Куми окрашивается в черные цвета. По дороге она встречается с разными людьми, но по большей части ей попадаются наркоманы и всякие отбросы общества – горе-любовники, отщепенцы и радикалы. Знакомясь с ними, героиня попадает в самые невероятные и неприятные истории. Она становится свидетелем многих омерзительных сцен и даже жестоких эпизодов мужской драки с разбитыми молочными бутылками, из которых текут ручейки разлившегося молока. Кстати говоря, снято впечатляюще.
А однажды и сама Куми вынуждена была выхватить пистолет у преступника и вступить с ним в схватку, чтобы предотвратить готовящуюся им диверсию на газопроводе. Еще немного – и на воздух могла взлететь часть города. Вот такая картина – в чем-то авангардная, в чем-то социальная, но, несомненно, талантливая.
С этой поры каждая вышедшая работа для Ямамото – это штучный товар: он никогда не снимал много и выпускал свои ленты с большими перерывами, о чем свидетельствует достаточно скромная фильмография режиссера, если, конечно, судить по количеству снятых им фильмов. Их всего 17. Но каждый из них надолго запоминается зрителем, в первую очередь, благодаря остроте и необычности сюжета, актуальности поднятых тем и самобытной манере повествования, сочетающей в себе реализм, авангард, поэзию и обилие ёмких художественных метафор.
Возьмем, к примеру, короткометражный фильм «Сад Робинсона» («Робинсон-но нива, 1987), созданный на стыке драмы и комедии, который получил приз газеты Zitty на Берлинском кинофестивале в 1987 г., а затем был отмечен почетной наградой ассоциации кинорежиссеров Японии «Новые имена». Или же вспомним другую известную ленту мастера – криминальный триллер «Нездоровая пища» («Джанку фудо», 1997). Ямамото создавал ее на собранные его друзьями деньги, причем преимущественно в США, находясь там на стажировке по линии Управления по делам культуры правительства Японии. Снимал сам 8-миллиметровой камерой, бродя по самым криминальным районам Нью-Йорка и, конечно же, Гарлему и выискивая там для себя сюжеты. Ведь, по признанию самого мастера, он «не может начать съемки до тех пор, пока готовые образы не посетят его воображение»16. И именно здесь Ямамото задумал создать азиатское кино. «Это не будет кино о тех, кто сражается и работает из последних сил, чтобы стать успешным в Америке, скорее о тех, кто не борется вообще», – уточнял он17. А потом в других частях ленты мы увидим и социальный ландшафт Токийского залива, и ночные урбанистические зарисовки. Именно тогда у режиссера родилась идея снять свою следующую картину в Пакистане.

«Сад Робинсона» («Робинсон-но нива», 1987)
В обоих этих фильмах режиссер исследует проблемы иностранцев, проживающих в Японии и обреченных постоянно находиться среди маргиналов в криминальной среде. Тема – не из простых или приятных, а о развлекательности в данном случае и вообще не может быть речи. Вот почему обычно японские режиссеры редко обращаются к ней. Но Ямамото это сделал, и сделал талантливо.
Для режиссера главное в кино – это «процесс познания» и «изучения человеческих эмоций», а потому он до сих считает себя «учеником», постигая секреты жизни и учась у нее. Даже приступая к работе над фильмом, Ямамото никогда не имеет заранее четко проработанной идеи, она приходит к нему в ходе съемок. А потому он позволяет себе вносить коррективы в сюжет, если этого требуют какие-то возникшие во время съемок обстоятельства. Куда больше внимания мастер уделяет подготовке к съемкам – подбору актеров, подробному знакомству с их личной жизнью. Но самое главное для него – это выбор темы, вокруг которой он построит свое повествование. И если большинство японских режиссеров сегодня интересует жизнь среднего класса, то Ямамото открыто заявляет: «Я хочу стоять на стороне тех, кого общество превратило в маргиналов, поскольку в какой-то степени чувствую себя частью их»18.

