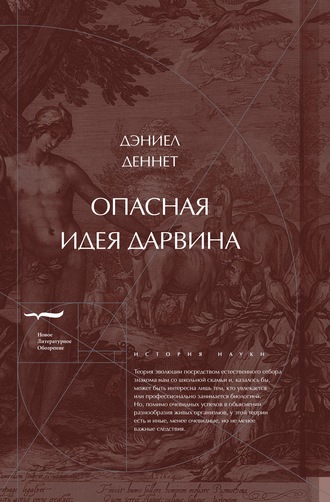
Полная версия
Опасная идея Дарвина: Эволюция и смысл жизни
Учение о сущностях кажется действенным способом систематизации явлений, относящихся ко множеству областей знания, но срабатывает ли этот принцип в каждой классификации, которую мы можем разработать? Есть ли сущностные различия между холмами и горами, снегом и градом, особняками и дворцами, скрипками и альтами? Джон Локк и другие мыслители разработали сложные учения, различающие подлинные и всего лишь номинальные сущности; последние просто паразитируют на именах или словах, которые мы решаем использовать. Можно ввести любую классификационную схему: например, члены клуба любителей собак могут голосованием утвердить список условий, которым собака должна удовлетворять, чтобы считаться настоящим клубным спаниелем, но здесь сущность будет лишь номинальной, а не подлинной. Подлинные сущности выявляются в ходе научного исследования внутренней природы вещей, где сущностные и случайные свойства можно различить, опираясь на конкретные принципы. Сложно сказать, каковы принципиальные принципы, но, раз химия и физика так замечательно согласуются друг с другом, казалось разумным предположить также и существование определяющих признаков подлинных сущностей живых организмов.
Если исходить из этого восхитительно внятного и систематического представления об иерархии живых существ, мы столкнемся с некоторым количеством несообразностей и загадок. Натуралистов эти очевидные исключения тревожили почти так же сильно, как геометра всполошило бы открытие треугольника с суммой углов не вполне равной 180°. Хотя многие таксономические границы были точно установлены и, по всей видимости, не предусматривали исключений, существовали всевозможные промежуточные виды, не поддававшиеся классификации: казалось, они причастны более чем одной сущности. Существовали также любопытные примеры общих и уникальных видовых черт более высокого порядка: почему птиц и рыб объединяет наличие позвоночника, а не перьев, и почему понятия зрячее животное или хищник не являются столь же важными основаниями для классификации, как и теплокровное животное? Хотя вопрос об общих принципах систематизации и большинстве характерных видовых особенностей был уже решен (и, разумеется, сегодня больше не поднимается), спорные случаи становились предметом жарких дебатов. Являются ли все эти ящерицы членами одного вида или нескольких разных? Какой принцип классификации следует «принимать в расчет»? Какая система способна, говоря знаменитыми словами Платона, «рассекать на виды, согласно естественным членениям, стараясь не повредить отдельные части, как порой получается у грубого мясника»33?
До Дарвина эти дискуссии отличала фундаментальная рассогласованность и невозможность прийти к точному, обоснованному ответу, ибо не существовало базовой теории, которая объясняла бы, почему одна схема классификации разделяет все на естественные составные части правильно, в соответствии с подлинной природой вещей. С такой же рассогласованностью сталкиваются современные книжные магазины: как соотнести разные категории книг – бестселлеры, научную фантастику, ужасы, руководства по садоводству, биографии, романы, собрания сочинений, литературу о спорте, иллюстрированные издания? Если ужасы – жанр художественной литературы, то возникает вопрос о документальных триллерах. Все ли романы представляют собой художественный вымысел? Если так, то продавец не может вслед за автором назвать «Хладнокровное убийство» Трумена Капоте (1965) «журналистским романом». Но эту книгу не назовешь ни биографией, ни историческим произведением. На какую полку магазина поместить произведение, которое вы сейчас читаете? Очевидно, правильного способа категоризации книг не существует – в этой области сущности могут быть лишь номинальными. Но многие натуралисты были в целом убеждены, что в число выделенных категорий Естественной системы живых организмов входят и подлинные сущности. Как писал сам Дарвин: «Они думают, что в ней выражается план Творца; но пока не будет определено, что разуметь под планом творца – известный ли порядок во времени или в пространстве, или во времени и пространстве, или еще что-либо другое, мне кажется, что это утверждение ни в какой мере не увеличивает наших знаний»34.
Иногда в научной проблеме легче разобраться, усложнив ее. Развитие геологии и находки ископаемых останков представителей несомненно вымерших видов еще больше смутили систематиков, став, однако, тем самым кусочком головоломки, что позволил Дарвину, работавшему плечом к плечу с другими учеными, найти ключ к решению: виды не были вечными и неизменными; они эволюционировали с течением времени. В отличие от атомов углерода, которые, насколько было известно, всегда сохраняли наблюдаемую ныне форму, виды появлялись, исчезали и, в свою очередь, могли порождать новые виды. Сама по себе идея была не нова: ее многочисленные изводы серьезно обсуждались со времен Древней Греции. Но принять ее мешал фундаментальный платонический предрассудок: сущности являются неизменными, вещь не может изменить свою сущность, появление новых сущностей невозможно (кроме, конечно, исключительных случаев прямого божественного вмешательства). Превращение рептилий в птиц казалось столь же невозможным, сколь и превращение меди в золото.
Сегодня нам сложно воспринять это убеждение, но тут на помощь приходит воображение: представьте, как бы вы отнеслись к теории, стремящейся доказать, что число 7 некогда – очень, очень давно – было четным и постепенно стало нечетным, обмениваясь какими-то качествами с предками числа 10 (некогда бывшего простым). Разумеется, это полная чушь. Просто уму непостижимо. Дарвин знал, что такое представление глубоко укоренилось в сознании его современников и что потребуется приложить огромные усилия для его преодоления. Действительно, он более или менее признавал, что его старшие, авторитетные коллеги, вероятнее всего, окажутся столь же непоколебимы, сколь и виды, в которые они верили, и в заключении своей книги зашел так далеко, что попросил о поддержке более молодых читателей: «Тот, кто убедится, что виды являются изменчивыми, окажет хорошую услугу, добросовестно высказав свое убеждение; только таким образом будет сдвинута с места та масса предрассудков, которая тяготеет над этим вопросом»35.
Даже сегодня не все смирились с осуществленным Дарвином ниспровержением эссенциализма. Например, современные философы бурно обсуждают проблему «естественных видов»: этот старинный термин был очень осторожно воскрешен У. В. О. Куайном исключительно для того, чтобы отличить хорошие научные категории от плохих. Но в произведениях других философов маску «естественного вида» нередко носит подлинная сущность. Мы все еще томимся по эссенциализму – и не всегда безосновательно. Наука и в самом деле стремится рассекать на виды согласно естественным членениям, и часто кажется, что для этого нужно представление о сущностях или чем-то подобном. В этом согласны меж собой представители двух великих философских держав – платоники и аристотелики. Но дарвиновская изменчивость, что поначалу кажется лишь новым способом размышлять о биологических видах, может, как мы увидим, распространяться на другие явления и дисциплины. В биологии и иных областях знания есть сложные проблемы, легко разрешающиеся, стоит лишь усвоить дарвиновские представления о том, что делает вещь самой собой; однако консерваторы продолжают возражать против этой идеи.
2. Естественный отбор – грубое преувеличение
Убеждение, будто таким образом сформировался павлиний хвост, будет грубым преувеличением; но я все же убежден, что в несколько измененном виде тот же принцип применим к человеку.
Чарлз Дарвин 36Планы Дарвина относительно «Происхождения видов» можно разделить на две части: его целью было доказать, что, преобразовавшись, ранее существовавшие виды породили современные (то есть что виды эволюционируют), и показать, как проходил этот процесс «наследования с изменением». Не будь у Дарвина представления о механизме – естественном отборе, – посредством которого могла свершиться эта почти немыслимая историческая трансформация, у него, вероятно, не было бы стимула собирать все косвенные доказательства того, что она имела место. Сегодня мы довольно легко можем представить, как Дарвин решает первую задачу – доказывает незатейливый исторический факт наследования с изменением, – не увязывая его ни с какими соображениями касательно Естественного отбора или какого бы то ни было иного механизма, благодаря которому этот факт свершился; но для Дарвина такой механизм был одновременно необходимой охотничьей лицензией и непогрешимым руководством, подсказывающим, какие вопросы задавать37.
Сама по себе идея естественного отбора была не удивительной новинкой, выдуманной Дарвином, а скорее развитием идей, высказанных ранее и на протяжении лет или даже поколений бывших предметом жарких дебатов38. Среди этих идей центральной была догадка, возникшая у Дарвина, когда он обдумывал «Очерк о законе народонаселения» Томаса Мальтуса (1798). Мальтус настаивал, что, учитывая невероятную плодовитость людей, взрывной рост населения и голод неизбежны – если не будут приняты решительные меры. Мрачные мальтузианские представления об общественных и политических силах, которые можно было бы задействовать, чтобы предотвратить перенаселение, могли сильно повлиять на размышления Дарвина (и, вне всякого сомнения, повлияли на поверхностные нападки множества его противников), но идея, которую он позаимствовал у Мальтуса, была чисто логической. Она не имела ничего общего с политической идеологией и может быть сформулирована в весьма общем, абстрактном виде.
Представим себе мир, где живые организмы приносят многочисленное потомство. Так как эти потомки будут, в свою очередь, приносить многочисленный приплод, популяция будет расти и расти (в «геометрической прогрессии») до тех пор, пока, раньше или позже, – на деле, удивительно быстро – ей неизбежно не перестанет хватать доступных ресурсов (пищи, пространства и прочего, в чем живые организмы нуждаются, чтобы просуществовать достаточно долго и размножиться). В этот момент – когда бы он ни настал – потомство появится не у всех: многие останутся бездетными. Именно Мальтус указал на математическую неизбежность такого критического момента для любой в течение длительного периода воспроизводящейся популяции – людей, животных или растений (или, к примеру, марсианских машин-клонов, хотя такие причудливые варианты Мальтус и не обсуждал). Популяции, чья скорость размножения ниже, чем необходимо для воспроизводства, исчезнут, если тенденция не изменится. Если популяция в течение долгого времени сохраняет стабильную численность, она продолжит существование, поддерживая баланс между перепроизводством потомства и убылью численности в результате неблагоприятных изменений среды. Вероятно, это очевидно в случае домашних мух и других созданий, размножающихся с большой скоростью, но Дарвин доказывает свой тезис, самостоятельно подсчитывая: «Считается, что из всех известных животных наименьшая воспроизводительная способность у слона, и я старался вычислить вероятную минимальную скорость естественного возрастания его численности… через пятьсот лет от одной пары получилось бы около пятнадцати миллионов живых слонов»39. Поскольку слоны существуют уже миллионы лет, можно с уверенностью заключить, что в любом поколении лишь некоторые особи имели собственное потомство.
Следовательно, для любого вида нормальным положением дел будет такое, когда численность потомства в любом поколении будет выше, чем численность особей, которые дадут потомство в следующем поколении. Иными словами, момент почти всегда – критический40. Кому из потенциальных родителей «повезет» в этот период? Будет ли то справедливая лотерея, в которой у каждого организма равные шансы вытянуть счастливый билет? Если бы мы говорили о политике, то именно здесь зашла бы речь об общественном расслоении: власти, привилегиях, вероломстве, классовой борьбе и прочем, – но можно абстрагироваться от политического контекста и, подобно Дарвину, беспристрастно рассмотреть вопрос о том, что произойдет – должно произойти – в природе. Дарвин сделал два дополнения к почерпнутой у Мальтуса догадке: во-первых, если между участниками соревнования есть существенные различия, то в период катастрофы любое преимущество в гонке неизбежно отразится на том, кто именно размножится. Сколь бы незначительным ни было это преимущество, если оно является преимуществом (и, следовательно, природа его замечает), то склонит чашу весов в пользу своего обладателя. Во-вторых, если бы существовал «сильный принцип наследственности» (если бы потомок был склонен напоминать скорее своих родителей, чем их современников), смещение, обеспечиваемое преимуществами, сколь угодно малыми, со временем бы усилилось, порождая черты, способные к неограниченному развитию. «Рождается более особей, чем может выжить. Песчинка на весах может определить жизнь одной особи и смерть другой, какая разновидность или какой вид будут увеличиваться в числе и какие пойдут на убыль или окончательно исчезнут»41.
Дарвин заметил, что, если просто предположить применимость этих немногих общих условий (условий, существование которых он мог подтвердить многочисленными доказательствами) к моменту катастрофы, то в результате чаша весов неизбежно склонится в пользу тех представителей будущих поколений, которые лучше подготовлены к решению связанных с ограниченностью ресурсов проблем, с которыми столкнулись их родители. Эта фундаментальная идея – опасная идея Дарвина, идея, ставшая источником стольких озарений, неразберихи, замешательства, опасений, – на деле весьма проста. Дарвин резюмирует ее в двух длинных предложениях в конце четвертой главы «Происхождения видов».
Если при меняющихся условиях жизни органические существа представляют индивидуальные различия почти в любой части своей организации, а это оспаривать невозможно; если в силу геометрической прогрессии возрастания численности ведется жестокая борьба за жизнь в любом возрасте, в любой год или время года, а это, конечно, неоспоримо; если вспомнить бесконечную сложность отношений органических существ (как между собой, так и к их жизненным условиям), в силу которых бесконечное многообразие строения, конституции и привычек полезно для этих существ; если принять все это во внимание, то крайне невероятно, чтобы никогда не встречались вариации, полезные каждому существу для его собственного благополучия, точно так же, как встречались многочисленные вариации, полезные для человека. Но если полезные для какого-нибудь органического существа вариации когда-либо встречаются, то особи, характеризующиеся ими, конечно, будут обладать наибольшей вероятностью сохранения в борьбе за жизнь, а в силу строгого принципа наследственности они обнаружат наклонность производить сходное с ними потомство. Этот принцип сохранения, или выживания наиболее приспособленного, я назвал Естественным отбором42.
Это и было великой идеей Дарвина – представление не об эволюции, а об эволюции посредством естественного отбора; сам он так и не смог изложить эту идею достаточно строго и обстоятельно, хотя и представил блестящие доводы в ее пользу. В следующих двух параграфах мы поговорим о любопытных и исключительно важных деталях этой краткой формулировки.
3. Объяснил ли Дарвин происхождение видов?
Дарвин блестяще и триумфально справился с проблемой адаптации, но с вопросом разнообразия не вполне преуспел, хотя и дал своей книге заглавие, намекавшее на эту относительную неудачу, – происхождение видов.
Стивен Джей Гулд 43Так, по моему мнению, объясняется важный факт естественного распределения организмов в группы, подчиненные одна другой, – факт, который вследствие своей обычности мало обращает на себя наше внимание.
Чарлз Дарвин 44Заметим, что в своей формулировке Дарвин ничего не говорит о видообразовании: в центре его внимания приспособление организмов, их совершенство, а не разнообразие. Более того, на первый взгляд в этом заявлении разнообразие видов берется как исходная посылка: «…бесконечная
Естественный отбор неизбежно приводит к приспособленности, как ясно из приведенной формулировки, и, по утверждению Дарвина, в правильных условиях накопление адаптаций приведет к видообразованию. Дарвин прекрасно знал, что объяснить мутацию не значит объяснить появление вида. Животноводы, у которых он столь усердно учился, знали, как добиться многообразия в рамках одного вида, но, по всей видимости, никогда не создавали нового вида и высмеивали саму идею, будто у их особенных, различных пород животных может быть один предок. «Спросите, как я это делал не раз, у какого-нибудь известного селекционера герефордского скота, не могла ли его порода произойти от длиннорогого скота… и он подымет вас на смех». Почему? Потому что «вследствие продолжительного изучения специалисты слишком увлекаются различиями между разными расами; и хотя они очень хорошо знают, что каждая раса слегка изменяется, так как сами же получают призы благодаря отбору таких слабых различий, отказываются от всяких обобщений, в частности от суммирования в уме слабых различий, накапливавшихся на протяжении многих последовательных поколений»45.
Дальнейшее разделение на виды будет происходить, утверждал Дарвин, поскольку, если в популяции (одного вида) существует многообразие наследуемых навыков или приспособлений, эти различные навыки или приспособления будут склонны давать различным группам внутри популяции различные преимущества, и потом эти субпопуляции будут отличаться друг от друга все больше, каждая в погоне за своей конкретной излюбленной формой совершенства, до тех пор пока, в конце концов, их пути не разойдутся окончательно. Почему – размышлял Дарвин – это расхождение приводит к разделению или накапливанию вариаций вместо того, чтобы оставаться более или менее равномерным «веером» небольших различий? Одним из ответов на вопрос была элементарная географическая изоляция; когда значительное геологическое или климатическое изменение (или случайное переселение в изолированный ареал обитания – например, на остров) приводит к расколу популяции, характерные особенности конкретной окружающей среды со временем должны отразиться в различных полезных мутациях, которые можно наблюдать в двух популяциях. А стоит вариации закрепиться, как различия будут накапливаться вплоть до разделения популяций на самостоятельные виды. Другая, и довольно необычная, идея Дарвина состояла в том, что к внутривидовой борьбе обычно применим принцип «победитель получает все»:
Не следует забывать, что конкуренция будет всего упорнее между формами, наиболее близкими по строению, конституции и образу жизни. Отсюда склонность к исчезновению будут иметь все промежуточные формы; а именно между ранними и более поздними состояниями, или, иначе, между менее совершенными и более совершенными состояниями одного и того же вида, а равно и сам родоначальный вид46.
Он сформулировал ряд иных оригинальных и правдоподобных догадок о том, как и почему безжалостная выбраковка естественного отбора может и в самом деле установить межвидовые границы, но они и по сей день остаются догадками. Потребовалось столетие дальнейших исследований, чтобы блестящие, но незавершенные размышления Дарвина о механике видообразования получили определенное подтверждение. Споры о механизме и принципах видообразования еще ведутся, так что в каком-то смысле ни Дарвин, ни кто-либо из его последователей не объяснили происхождение видов. Как отметил генетик Стив Джонс, опубликуй сегодня Дарвин свой шедевр под тем же заглавием, «у него были бы проблемы с законом об описании товаров, ибо о чем в „Происхождении видов“ не говорится, так это о происхождении видов. Дарвин ничего не знал о генетике. Теперь нам известно многое, и хотя то, как появляется вид, остается загадкой, некоторые кусочки головоломки уже легли на свои места»47.
Но сам факт видообразования неопровержим, как показал Дарвин, собрав неотразимые доводы – буквально сотни досконально изученных и тщательно аргументированных примеров. Виды образуются посредством «наследования с изменением» от ранее существовавших видов, а не путем Творения. Так что в другом смысле Дарвин, бесспорно, объяснил происхождение видов. Какие бы механизмы ни действовали, все, очевидно, начинается с появления разнообразия внутри одного вида и, после накопления модификаций, заканчивается рождением нового вида – наследника предыдущего. Все начинается «хорошо выраженной разновидностью», но постепенно, «стоит [только] допустить, что эти ступени в процессе модификации будут более многочисленными или большими по размерам, чтобы эти три формы превратились в сомнительные или даже во вполне определенные виды»48.
Заметим, что Дарвин с осторожностью описывает итог процесса как создание «вполне определенного» вида. «В конце концов, – говорит он, – различие становится столь значительным, что нет оснований отрицать наличие двух разных видов, а не двух разных форм одного вида». Но он отказывается участвовать в традиционной игре и заявлять, в чем состоит «сущностное» различие:
Из всего сказанного ясно, что термин «вид» я рассматриваю как произвольный, присвоенный ради удобства для обозначения близко сходных между собою особей и не отличающийся в основном от термина «разновидность», которым обозначают менее отчетливые и более флюктуирующие формы49.
Одним из стандартных признаков, позволяющих отличать виды друг от друга, как прекрасно понимал Дарвин, является репродуктивная изоляция – невозможность скрещивания. Именно скрещивание воссоединяет различные группы, образовавшиеся внутри популяции, перемешивая их гены и «прерывая» процесс видообразования. Конечно же, не существует того, кто желает, чтобы видообразование состоялось50, но чтобы случился окончательный развод, означающий формирование нового вида, ему должен предшествовать какой-то период «раздельного проживания», когда случаи скрещивания по той или иной причине становятся реже, так что в этих популяциях накапливается еще больше различий. Критерий репродуктивной изоляции, скорее, неопределенен. Принадлежат ли организмы к разным видам, когда скрещивание невозможно – или когда оно просто не происходит? Считается, что волки, койоты и собаки – разные виды, но случаи скрещивания между ними известны и – в отличие от мула, результата скрещивания кобылы и осла, – их отпрыски обычно не стерильны. Таксы и ирландские волкодавы считаются представителями одного вида, но, если только владельцы не создадут этим собакам какие-то в высшей степени неестественные условия, шансов на скрещивание у них примерно столько же, сколько у летучей мыши с дельфином. Белохвостые олени из Мэна не скрещиваются с белохвостыми оленями Массачусетса, ибо не перемещаются на такие дистанции, но вполне могли бы, если бы их перевезли, и, естественно, принадлежат эти животные к одному виду.
И наконец – подлинный пример, который, кажется, создан специально для философов, – возьмем серебристых чаек, живущих в Северном полушарии: их ареал обитания широкой полосой окружает Северный полюс.
Наблюдая за серебристыми чайками, проживающими на территории от Великобритании до Северной Америки, мы видим, что к западу популяция слегка меняется: американские чайки – это чайки, но немного отличающиеся от английских. Продолжая движение, мы заметим, что постепенные изменения наблюдаются и дальше: в Сибири серебристая чайка больше похожа на птицу, которую в Великобритании называют клушей. При движении по Сибири, России и вплоть до границ Северной Европы обнаружится, что чайки все больше и больше похожи на английских клуш. Наконец, в Европе круг замкнется: две отдельные формы встречаются, чтобы образовать два совершенно полноценных вида: серебристая чайка и клуша выглядят по-разному и в природе не скрещиваются51.




