
Полная версия
Дети Воинова
Через час все угомонились, выпили, закусили, опять выпили, снова поплакали. Моня и Гришка так живописали умение хирурга владеть ножом, что сомнения в его профпригодности улетучились вместе с напряженной обстановкой в семье. А окончательная реабилитация произошла неделями позже на Кузнечном рынке, но это уже совсем другая история.
Глава четвертая
Пасхальные страсти на Кузнечном рынке

Надо ли говорить, что никуда бабушка Серафима и деда Осип не уехали и остались еще на пару недель?
Приближалась Пасха. Времена были не то чтобы лихие, но в синагогу ходить открыто опасались. Поговаривали, что в домах напротив синагоги на Лермонтовском проспекте постоянно дежурят мальчики с голубыми глазами.
Посылали Сеньку: он знал ленинградские проходные дворы лучше ленивых местных участковых милиционеров и уйти мог от любой слежки. Справедливости ради, это ни разу не понадобилось. Видимо, наша рабочая еврейская семья была не слишком интересна органам.
В этот раз Сенька брал мацу и на семью дедушкиного друга Самуила, с которой, естественно, все уже познакомились, и праздновать Пасху решили вместе.
Какая Пасха без бульона из курочки? На Кузнечный рынок была отправлена делегация на высшем уровне во главе с Саррой, дежурной по бульону. Другую курочку собирались фаршировать черносливом. Это ответственное дело доверяли только Самуилу – все-таки по его специальности. Он профессионально брал курицу за липкие ляжки, указательным и средним пальцем проверял анатомическую и акушерскую конъюгату и ловко фаршировал внутренность, ни разу не ошибившись в количестве начинки. Профессионально наложенные швы в промежности возвращали курице утраченную девственность.
Бабка Серафима участвовать в походе на рынок категорически отказалась, мотивируя тем, что она и так навеки опозорена.
Дело в том, что у мамы после родов началась анемия, и ей надо было есть гранаты. Мама гранатовый сок терпеть не могла и втихаря спаивала его Сеньке и папе. Их цветущая румяность только подчеркивала мамину бледность. Семья решила, что на рынке продаются плохие гранаты, и командировала бабушку Серафиму и деду Осипа на поиски хороших.
Гранатов было немного. Дед подошел к продавцу:
– А хороши ли гранаты, сынок? Что-то они нам не очень помогают.
Вальяжный усатый продавец ужасно обиделся:
– Ты посмотри, какой гранат! Где такой еще найдешь?
В сердцах он выхватил нож размером с хороший кинжал и хватанул по гранату. Тот развалился, выплюнув на прилавок темную струю своей гранатовой крови. Дед автоматически выбросил правую руку в сторону.
– Сушить! – строго скомандовал он Серафиме.
Что самое ужасное, она, на том же автопилоте, мгновенно достала чистый платок и точным движением вложила в руку хирурга, который затампонировал несчастный гранат и только потом очнулся и сконфуженно отступил назад. Глаза продавца приобрели размеры граната и так же налились соком-кровью. Пара гранатоспасителей быстро ретировалась с рынка во избежание дальнейшего кровопролития.
Словом, сопровождать Сарру и Самуила пошли только деда Осип с Сеней и дедой Мишей в качестве бесплатной рабочей силы.
Тетя Сарра остановилась у прилавка с курицами и недоверчиво пощупала куриный бледный бок с подозрительными желтоватыми пятнами на пупырчатой коже.
– Она свеженькая? – спросила она у продавца-грузина.
– Слушай, мамой клянусь, сегодня еще неслась! – И продавец перевернул курицу, которая, услышав такую наглую ложь, посинела с другого боку.
Недоверчивая Сарра взяла курицу двумя руками, стыдливо раздвинула ей ляжки и потянула носом, близоруко склонясь над курицыным естеством.
– Слушай, давай я тебя так же понюхаю! – возмутился грузин.
Соседи и зрители заржали и сползли под прилавки. Сарра покраснела, и курица выскользнула у нее из рук. Рядом стоял деда Осип.
– Я бы вас попросил, любезнейший, немедленно извиниться перед дамой! – возвысил он голос.
Грузин открыл рот, чтобы отбрить неожиданного заступника, как вдруг через прилавок перелетел вихрем человек и бросился на деду Осипа.
Крик Сарры был слышен по всему Кузнечному рынку. Деда Миша и Сеня, побросав авоськи, рванули на подмогу.
Но еще раньше под стеклянной крышей Кузнечного рынка раздался другой истошный вопль:
– Осип Иванович, это же я! Я! Отари Долидзе! Ну вспомните, ноги чуть не ампутировали, вы же не дали, собрали по кускам! Ну, я же Отари! Мама! Нугзар! Где вы?! Смотри, доктор, все смотрите!
Отари вскочил на прилавок и стал плясать лезгинку.
Задирал штанины, показывал ноги в шрамах, плакал, кричал и танцевал.
Из другого ряда подскочил молодой парень, взглянув на которого деда Осип, конечно, вспомнил молодого Отари, истекающего кровью подрывника. Ноги в кашу. Парень был, на удивление, в полном сознании и все просил, чтобы ему только ноги не отрезали. Все были против, а дед, почувствовав, что пятки теплые и, значит, кровоснабжение есть, восемь часов не отходил от стола, сшивая размозженные мышцы и прилаживая раздробленные кости. Выжил парень, потом в тыл его переправили – и потерялся след.
Сейчас пятидесятилетний Отари танцевал и плакал на прилавке Кузнечного рынка. Глядя на него, плакали все, включая опозоренного продавца, который уже схлопотал той самой многострадальной курицей по морде от неразобравшегося Семёна, плакали продавщицы в молочном и овощном ряду, плакали подоспевшие милиционеры и просто покупатели, а деда Осип виновато протирал очки.
Не плакала только одна очень старая женщина в черном. Она подошла к деду, взяла его руки в свои, потом кряхтя наклонилась и встала на колени перед хирургом, спасшим жизнь и ноги ее единственному сыну.
Никогда еще Кузнечный рынок не видел такого накала страстей на единицу своей торговой площади.
Эта Пасха вышла совершенно особенной. За столом сидели Сарра и Самуил, вся моя семья, семья Отара Долидзе. Старая Этерия не спускала меня с рук, благословляя на своем языке.
Деда Миша после всего этого проникся к Осипу такой любовью и уважением, что, когда тот уехал обратно в Ригу, ужасно скучал и звонил часто.
А когда я стал чуть постарше, в Ригу отправили меня, и там я для начала потерялся и навсегда полюбил собак. Но об этом в следующий раз.
* * *Заканчивая эту главу, я забыла, что, прежде чем теряться и учиться понимать собак, ребенок должен был немного подрасти и заговорить по-человечьи, поэтому следующую главу я назвала:
Глава пятая
Lingua latina non penis canina,
или Уроки языковедения
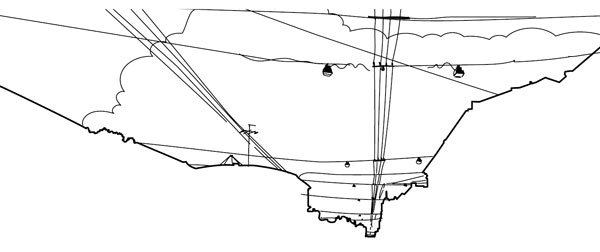
Я заранее прошу прощения у многоуважаемых читателей за некоторую фривольность этой главы. Но ведь «Дети Воинова» – не совсем детское чтиво, верно?
Ниже привожу перевод некоторых выражений, без которого смысл этой главы понять будет сложно.
Cik maksā aboli? – Сколько стоят яблоки? (Латышский язык.)
Lingua Latina non penis canina. – Не хер собачий. (Латынь.)
Fortuna non penis in manus non recipe – Счастье не член – в руку не возьмешь. (Латынь.)
* * *Говорить я, на радость всем, начал рано и почти сразу предложениями. Память у меня была великолепная, слух отменный, нос, как положено, длинный, и совал я его куда надо и не надо. Всем окружающим приходилось быть очень аккуратными в использовании языковых оборотов. Особенно туго пришлось Сене и дедушке, которые привыкли в порыве чувств в выражениях не стесняться, а теперь для выяснения проблем отцов и детей им приходилось уединяться на кухне и ругаться полушепотом. Весь интерес пропадал не начавшись. Дедушка вообще знал невероятное количество не подходящих для моего уха частушек, и ему всерьез пришлось прикусить язык. Женщины немедленно взрывались негодующим воплем, когда он, проходя мимо нишенки и поглядывая на вдовствующую бабушкину сестру, игриво напевал: «Мимо тещиного дома я без шутки не хожу…»
Но первым попался мой бедный папа. Дело в том, что мама в это время проходила практику в Ленинском районе старого коммунального Ленинграда. В ее участок входило несколько домов между провонявшей дрожжами с пивного завода Курляндской улицей и проспектом Газа, поблизости от завода «Красный треугольник», сливавшего производственные и канализационные отходы в Обводный канал. То еще местечко. И народец соответствующий – люмпен, гегемон. Дома шли на расселение, и те, кто жил на последнем этаже, к участковому врачу в сумерки ходить боялись и ленились. Уже опустевшие квартиры на нижних этажах были заняты бомжами и всяким другим малоприятным сбродом. Мама же, как молодой специалист, должна была шлепать в темноте среди подозрительных личностей, чтобы обслужить оставшихся на верхних этажах жителей.
Вот и в тот день, больная, в порвавшихся и промокших сапогах, она потащилась на седьмой этаж нелифтированного дома 32 по Курляндской. Дверь ей открыла румяная сытая жена местного милиционера, держа на руках не менее сытого младенца. С радостной улыбкой поприветствовав мою анемичную, тощую и сопливую маму, она разверзла сахарные уста деревенской хабалки и спросила, какой кусочек от курочки лучше дать ее зажравшемуся Ромочке.
Все это мама, рыдая, рассказала дома папе, пока он стаскивал с нее сапоги и ставил мамины отмороженные ноги в тазик с теплой водой. Папа, на минуту забывшись, ясно сказал, какой именно кусочек от курочки и куда засунул бы он Ромочке. На что я немедленно спросил, что такое «жопа», и вопросительно воззрился на папу в ожидании объяснений. Если бы папа мог, он утопился бы в тазике. Дедушка и Семён, хрюкая, вылетели на кухню. Папа, страшно покраснев под испепеляющим взглядом мамы и бабушки Гени, выдавил из себя, что это просто самая вкусная часть курочки.
Инцидент, казалось, был исчерпан. Но он еще аукнулся, когда я был приглашен на день рождения к соседской Розочке. Она была так же прекрасна и пленительна, как масляные розочки на праздничном торте. И когда меня спросили, какой кусочек мне бы хотелось, я очень четко выговорил слово, которое не имело к торту никакого отношения, но имело самые серьезные последствия в наших отношениях с соседями. Я так и не понял, почему, когда я попросил самый вкусный, по словам папы, кусочек, то есть жопу от тортика, нам пришлось немедленно уйти домой, и Розочка больше никогда не появлялась в нашем доме.
Язык мой – враг мой! Это было только начало. Сколько я страдал из-за него и физически и морально! Может, и надо было слегка подкоротить его еще в детстве, тем более что такая возможность представилась той же зимой.
* * *Семёну иногда доверяли гулять с любимым племянником. При этом нам строго-настрого запрещалось выходить со двора на улицу, приближаться к кошкам, собакам, машинам, магазинам, сосулькам, помойкам… Список можно было продолжать до бесконечности. Семён получал наставления перед каждой прогулкой, словно ему поручали доставить суперважный пакет в ставку командующего. Понимая всю степень ответственности, Семён со двора не выходил, да он и не стремился, так как двор был полон скучающих от сидения с детьми мамаш, а чернявый Сеня вид имел импозантный и глядел с вожделением и многообещающе.
В тот день стоял такой холод, что бабушка долго сомневалась, выпускать ли чадо на улицу вообще, но в итоге решила, что свежий воздух все же лучше. И вот, одетый так, что едва мог шевелиться, я был этапирован во дворик со своим верным охранником, который, определив меня у замерзших намертво качелей, стал окучивать очередную молодку с младенцем.
Молодка истекала молоком, а Сеня слюнями. Да и звучала она, видимо, обнадеживающе, потому что Сеня отвлекся всерьез, а я, соответственно, заскучал. Развлекал меня только призывный блеск качельной железяки, которая, как строго запрещенное зимой мороженое, переливалась на холодном январском солнце. Язык сам потянулся к качелям и в строгом соответствии с законом физики немедленно примерз.
Мой вой разбудил даже медведей на Карельском перешейке. Сеня в истерике попытался меня отодрать, но не тут-то было – против природы не попрешь. Я орал от боли, а Сеня от ужаса. Он прекрасно понимал, каким именно местом его на глазах всего двора прилепят к качелям, где и оставят оттаивать до весны, и, уже ничего не соображая, дергал меня за голову. Я же, весь потный и красный, орал как пожарная сирена. На наши вопли вылетела бабушка, быстро оценившая ситуацию из окна, окатила мой язык и железку теплой водой и аккуратно высвободила из ледяного плена.
Сеня, получивший с размаху тем же ковшиком по голове, даже не роптал, понимая, что дешево отделался. Все же на всякий случай он затаился на пару дней у уже обработанной молодки, чтобы переждать бурю, которая разразилась после возвращения домой мамы, папы и, главное, дедушки. Пару тумаков и оплеуху по возвращении он принял с кладбищенским смирением. Видимо, счел их заслуженной расплатой за мой отмороженный язык и поруганную честь кормящей мамаши.
* * *Зима кончилась, и по весне меня отправили в Ригу к другим моим бабушке и дедушке. А на лето из пыльной Риги меня всегда увозили на Рижское взморье. Как таинственно и заманчиво звучали названия: Дубулты, Яундубулты, Дзинтари, Майори… А ресторан «Юрас перле»! Незнакомые слова перекатывались во рту, как ракушки в песке прибалтийских дюн.
В этот раз дачу мы снимали в Яундубултах. Деда Осип утром ездил в Ригу на работу, оставляя нас с бабушкой Серафимой на даче. Почти ежедневным развлечением были походы на местный рынок. Я быстро усваивал сложный латышский язык. Бабушка просто раздувалась от гордости, когда я подходил к прилавку и важно спрашивал: «Cik maksā aboli?» Торговки умилялись и делали скидку.
В соседней с нами комнате проживали шумные студентки-медички. В июне, понятное дело, шла сессия, и они целыми днями гундели непонятное. Меня они любили, зазывали к себе часто и втихаря от строгой бабушки подкармливали чем-нибудь вкусненьким. Аппетит мне перебить было трудно, и их коварство оставалось незамеченным. К слову, по-моему, они через меня пытались наладить связи с дедушкой, потому что в дальнейшем всем предстояло у него сдавать военно-полевую хирургию.
Однажды я, как всегда, зашел на огонек, а главное, поживиться бутербродом с категорически запрещенной и от этого еще более любимой дешевейшей ливерной колбасой. Девицы, заткнув меня приличным куском, долбили что-то на незнакомом языке.
Решив блеснуть перед коренными рижанками, я вставил свое дежурное «Cik maksā aboli» и замолчал, ожидая похвалы.
– Ну, молодец, латышский знаешь! – Дайва потрепала меня по буйной шевелюре. – А мы вот латынь учим. Lingua latina – non penis canina, – назидательно сказала она под стыдливое хихиканье товарок.
Про латынь я уже слышал, правда, в разницу между латышским и латынью не вникал. Бабушка, каждый день измерявшая деду давление, горестно вздыхала: «Cogito ergo sum!» Дед объяснил мне, что это значит: «Врач, излечися сам».
– А еще? – попросил я Дайву.
Бедная наивная девочка. Она не учла мою феноменальную память и восприимчивость к языкам. Она просто хотела повеселить заучившихся подружек. Откуда ей было знать, чем обернется ее коварная шутка?
Под хохот товарок она выдала:
– Fortuna non penis in manus non recipe!
Тут настало время обедать, и бабушка призвала меня за стол.
Самое страшное произошло на следующий день.
Мы, как водится, утром пошли на рынок: строгая интеллигентная бабушка с кошелкой и я, очаровательный кудрявый херувим в матросском костюмчике. Любо-дорого смотреть!
Останавливаемся перед знакомой продавщицей, бабушка отступает назад, делает приглашающий жест рукой: мой выход. И тут я на голубом глазу без запинки выдаю:
– Fortuna non penis in manus non recipe!
Продавщица с изумлением смотрит на бабушку, понимая только значение слов «пенис» и «фортуна». Как женщина опытная, она даже видела между ними прямую связь, только не понимала, какое это отношение имеет ко мне и ее яблокам.
Видимо, бабушка на некоторое время потеряла дар речи, и я, ошибочно приняв ее гробовое молчание за одобрение, выдал второй перл:
– Lingua latina non penis canina.
Тут уже растерялась и продавщица. Все-таки торговала она яблоками, и смысл моих многозначительных тирад про пенис ускользал от нее.
Очнувшаяся бабушка цвета перезрелого помидора рванулась с рынка, как призовая борзая.
Добравшись домой в рекордно короткое время, она посадила меня в комнате, а сама вломилась к медичкам. Дверь она тщательно притворила, а то бы я познакомился, наверное, и с татаро-монгольским фольклором. Все же фронтовая медсестра помнила, как командиры поднимали батальоны в атаку.
Дедушке все было доложено по возвращении – шансы многострадальных девиц сдать в дальнейшем хирургию сделались так же малы, как шанс выйти замуж за князя Монако, и им ничего не оставалось, как позорно ретироваться с дачи. А на их место вскоре вселилась семья с девочкой Любочкой – и вот тут-то начались настоящие дачные приключения.
Глава шестая
Собака бывает кусачей только от жизни собачьей
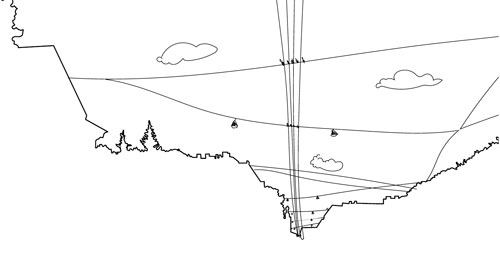
Любаша была моя дальняя родственница, десятая вода на киселе, как выразилась бабушка, дав мне пищу для размышлений на целый вечер. Кисель и Любашу я любил по-разному. Кисель я любил пить, а с Любочкой любил играть. С ней было всегда весело и интересно. Надо было знать эту заполошную девчонку, которая умудрялась командовать даже мальчишками намного старше ее. В умении задурить голову кому угодно ей не было равных.
Я не понимал и, наверное, до сих пор не понимаю, что такое настоящая красота. Так вот, Любочка со своими не очень правильными чертами лица и теловычитанием вместо телосложения была прекрасна. Ее не могли испортить ни растрепанные волосы, ни битые коленки, ни замурзанная мордашка. Когда она улыбалась, расцветали даже камни. Она никогда не плакала и не закрывала рта. Я просыпался от ее звонкого голоса, а вечером это щебетание без пауз было мне лучшей колыбельной. По-моему, она никогда не ела и не спала. Мама Любочки тщетно пыталась усадить ее хотя бы пять минут почитать. Вы когда-нибудь пробовали остановить облака в небе? Любочка пролетала мимо мамы со скоростью гепарда и занятостью муравья – и уже издалека доносилось ее дежурное: «Мамочка, еще пять минуточек!»
Пять минуточек превращались в бесконечные часы, за которые она успевала сварить суп из листков жасмина, накормить этим супом какого-то великовозрастного придурка, сказав, что это лекарство от прыщей (кстати, помогло!), построить шалаш из веток и поселить в него соседскую курицу, которая от испуга перестала нестись, поиграть со всей улицей в прятки, после чего все еще целый час не могли найти трех детей и престарелую дачницу из дома по соседству. Триумфом был кисель из зеленого крыжовника, который споили мне со всеми вытекающими из разных мест последствиями. После того как меня полоскало всю ночь, бабушка имела серьезный разговор с Любочкиными родителями. Те бледнели, краснели, извинялись и клялись, что больше подобного не повторится. И это как раз было чистой правдой: Любочка вообще не любила повторяться. Симптомы после варенья из немытой клубники, сваренного в ведре для пищевых отходов, были более доброкачественными, и бедная наивная бабушка приписала их вчерашнему кефиру. Ушибы, порезы, царапины в счет не шли, а до серьезных травм, к счастью, не доходило. Все-таки девочка – ни рогаток, ни другого оружия массового поражения.
Про рогатки вообще разговор особый. Любаша не переносила ничего, что могло повредить животному миру. Она была с ним одной крови – этакая Маугли местного разлива. На ее голос слетались даже комары, кусая всех, кроме нее. Птицы, кошки, собаки, червяки и, к испугу всей дачи, даже, кажется, змеи поджидали ее на каждом шагу, чтобы просто поприветствовать или попросить о помощи. Она безошибочно вытаскивала колючку из лапы захромавшей собаки и микроскопического клеща из спинки роскошно-пушистого ангорского кота. Ежи не выпускали иголок, бабочки и божьи коровки бесстрашно садились Любочке на руку. Она попыталась даже участвовать в принятии родов у козы с соседней улицы, но хозяйка не разрешила – все-таки ребенок. А зря. Могла бы сэкономить на ветеринаре, да и коза бы меньше мучилась. Козленка уж потом мы вместе выхаживали – тут никто не возражал, даже мама-коза.
Так вот, этот дар и послужил началом всей последующей истории.
* * *За три дома от нас жил старый Пауль – этакий книжный червь с характером законченного аутиста. Никто бы и не вспоминал о его существовании, если бы не пес Бубен, совершенно исполинских размеров немецкая овчарка. Когда Пауль шел с ним по улице, народ опасливо расступался. Во дворе Бубен сидел на цепи и, когда незнакомцы, по неведению, стучались, чтобы спросить о комнате внаем, заходился таким лаем, что дачников сдувало до самых Майори. Пауль даже дверь, похоже, не закрывал – кому в голову придет к нему наведаться, когда во дворе сидит этакий цербер с зубами в палец длиной? А вот Любаше пришло.
– Пойдем, что-то покажу! – схватила она меня за руку.
Идти или не идти – не обсуждалось: шел безропотно, как нитка за иголкой. Правда, слегка замедлил шаг, когда подошли к забору Пауля. Даже руку выдернул, что уже просто бунтом считалось.
– Смотри! – прошептала Любаша и отодвинула доску забора.
Бубен лежал, положив морду на лапы, и смотрел печально.
Любаша скользнула внутрь – я от волнения не мог даже дышать. Она направилась прямо к Бубну, тот поднялся, звеня цепью. Зрелище было не для моего детского воображения. Голова Любаши находилась на уровне могучей груди пса, а каждая собачья лапа казалась толще ее вместе взятых ножек. Любаша смело приближалась, Бубен открыл пасть, с мокрого длинного языка закапала слюна – и я в ужасе зажмурился. Было тихо, потом раздалось какое-то монотонное ворчанье. Я приоткрыл один глаз, а уж рот потом открылся сам.
Бубен развалился на боку, подрагивая всеми четырьмя лапами. Любаша же трепала его за язык, зарывалась двумя руками в шерсть, а пес только жмурился от восторга. Я осторожно протиснулся внутрь. Бубен млел.
– Иди сюда, не бойся, он добрый!
Я опасливо приблизился.
– Давай руку.
Любаша потянулась ко мне и, взяв мою ладошку, провела по спине Бубна. Тот немедленно завалился и подставил брюхо. Я осторожно провел рукой по свалявшейся шерсти. С тех самых пор нет для меня запаха более успокаивающего, чем запах разомлевшей на солнце собаки. Уже с годами к нему присоединится запах лошади после галопа и запах грудного ребенка после кормления. А пока я наслаждался каким-то неземным покоем, и мое маленькое сердце распирало от любви и нежности.
На пороге показался Пауль, привлеченный необычными звуками, доносящимися со двора, и если обычно люди от изумления дар речи теряют, то он, напротив, неожиданно обрел его.
– Деточка, – нежно, боясь спугнуть, обратился он к Любочке, которая внимательно изучала задние, самые опасные зубы Бубна. – Вынь ручки из собачки! Мы посадим ее в клетку, и я дам тебе конфетку.
От ужаса он стал изъясняться примитивными, недостойными профессора философии стихами. Любаша обернулась и, пропустив мимо ушей сладкие обещания, прочла ему короткую лекцию по вычесыванию собак, чистке ушей и зубов. Пауль вытянулся, как капрал перед генералом. Бубен, который уже не отходил от Любочки ни на шаг, понимающе и оскорбленно кивал. Оттащив меня от собачьей миски, из которой я под шумок поживился полупрожеванной и выплюнутой Бубном морковкой, старик Пауль повел нас домой. Народ, видя этот парад-алле, прятался за заборы и рукоплескал уже оттуда. Впереди, не то чтобы на белом коне, но вися на Бубне, гарцевала Любочка. Мы с Паулем шли в арьергарде.
Бабушка чепчик вверх не бросала, но полотенцем ее обмахнуть пришлось. Крепкая старушка была. Любочкина мама, к тихому восторгу Любочкиного папы, на пару дней онемела, тот даже к соседу-врачу ходил: мол, как бы так и оставить, чтобы молчала и улыбалась. Тот посоветовал надеяться: «Природа, знаете ли, батенька, чудеса творит». Нет, не прошел номер, отошла, заговорила, правда, улыбаться стала действительно чаще – на всякий случай.
С Паулем бабушка подружилась, он интересный старик оказался. Часто стал ходить к нам, и Бубна с собой брал, а потом и вообще его с цепи снял.
А история такая была. Пауль всех в войну потерял. Сам воевал, ранен был, потом вернулся – нет семьи, всех одной бомбой накрыло. Много лет один жил, а потом студенты подарили ему шестинедельного Бубна. Пауль спал с ним, ел из одной тарелки, холил и лелеял, любил до беспамятства. Избаловал, как еврейская мама единственное дитя. Бедный Бубен боялся собственной тени, и Пауль стал держать его на цепи, чтобы не сманили и не обидели. Бубен, он доверчивый очень был, бесконечно трогательный. На Пауля как на бога смотрел, тот в магазин один выйти не мог. Так и жили, как сиамские близнецы.












