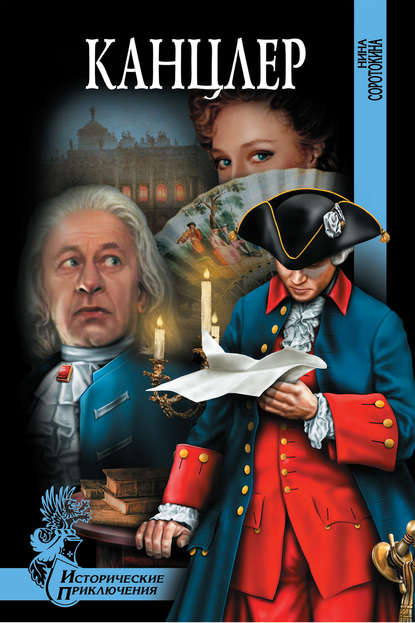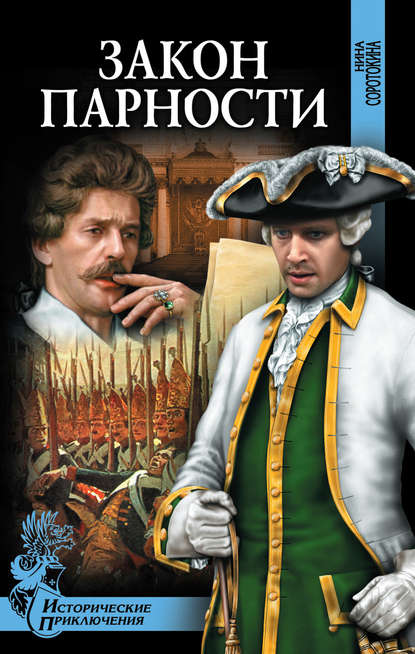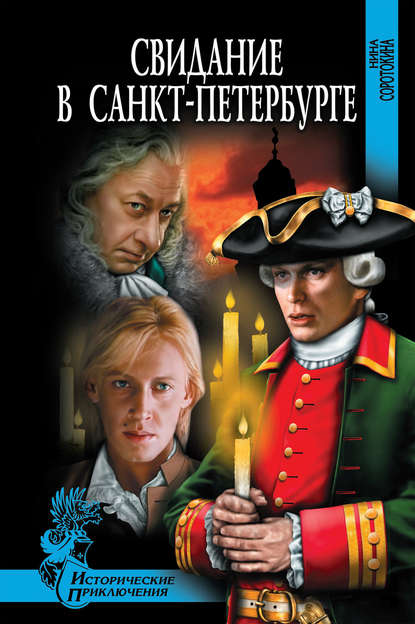Полная версия
Четвертый бастион
«Куда их черт несет, так не вовремя!» – обернулся Илья в сторону оставленных им ложементов. Прежде чем он метнулся на глазах изумленных фузилеров в сторону бастиона, он видел, как со стороны 1-й параллели союзников, из засыпанной наполовину траншеи потянулась вереница пехоты в красных кепи и синих, железного отлива, шинелях с бахромчатыми эполетами. С самоубийственной целеустремленностью французы шли прямо к тому месту, где под двумя саженями земли и пудами камней зловеще притих «камуфлет[14]» из нескольких бочонков пороха. Но теперь… как бы и своим не перепало.
Не раздумывая и даже забыв скинуть Crimeennes[15], так и оставшуюся в рукавах, штабс-капитан ринулся навстречу наступавшим… и снова рухнул, пропустив над головой нестройный первый залп первой шеренги своих же. Метнулся, пригнувшись, вперед, оказался перед колонной и заорал:
– Стой!
Но мыслимое ли дело остановить лавину? Уже исполненные решимости умерщвлять и умирать, солдаты даже своих-то командиров слышали не всякий раз, так что, если бы не дым, стелющийся по земле, фигуру в красных штанах, мечущуюся перед колонной, кто-нибудь непременно взял бы на мушку тяжеловесного солдатского пистоля или взмахнул бы тесаком.
Надеяться на рассудительность людей, разгоряченных предвкушением боя, как-то не приходилось. Поэтому, когда над головой Ильи, блеснув серебряным бликом, взметнулась сабля, ему только и оставалось, что выхватить из ножен свою, верней – убитого француза, пехотную шпагу.
Севастополь,столовая князя Мелехова– И вообразите себе, с добрую минуту наши герои бились на саблях так, что только искры летели, – вдохновенно взметнув кулак над головой, прапорщик Лионозов обвел присутствующих горящим взором, как если бы сам только что нанес сабельный удар. – И вдруг, вы не поверите, господа… – опустив кулак и прижав его к груди, воссиял прапорщик улыбкой узнавания. – И вдруг Виктор Сергеевич расслышал в горячке поединка, что противник его, француз, отчаянно ругается по-русски и самым солдатским образом!
Гомерический смех заставил трепетать свечные язычки пламени в канделябре и заглушил деликатные дамские смешки в веер.
– Вот где оказия! Да уж, печальный мог выйти анекдот, окажись кто-нибудь из них менее проворен в фехтовании, – грузный отставной подполковник от кавалерии, щеголявший в старомодном мундире со снятыми эполетами, и он же хозяин дома – князь Дмитрий Ефремович Мелехов – помотал лысеющей головой. Затем он, кряхтя, поднялся с черной крышки рояля, куда почти лег, навалившись грудью, от хохота, и, как будто ставя точку в своем веселье, хлопнул пухлой ладошкой по черному лаку, на котором плясали отраженные огоньки. Рояль отозвался благородным бронзовым гулом.
– Нет, нет… оба противника были достойны друг друга, – с иронической улыбкой произнес поручик Соколовский, образовавшись в высоких дверях столовой.
Даже тут – в зале княжеского дома, отличного от прочих на этой узкой улочке только пузатой, на деревенский манер, колоннадой портика, – чувствовалось тревожное дыхание войны, несмотря на салонное благодушие и размеренность быта, кажущуюся безмятежность и разбросанные на трельяже милые женские безделицы: кружевные перчатки, парфюмерные флаконы и лорнет, вполне бесполезный. К примеру, о войне говорило то, что на ломберном столике в зале поверх старого «Московского Меркурия» и «Ведомостей» лежал кремневый пистолет. Это оружие Дмитрий Ефремович чистил ежедневно, пусть и без всякой надежды употребить. Также можно было заметить, что с одной из пилястр в простенке меж высокими арочными окнами обвалилась капитель в виде амура – еще во время первой бомбардировки. И, наконец, армейские серые и черные флотские шинели, не поместившись в тесной прихожей, лежали грудами на подлокотниках кресел.
– А-а… друг мой! – захромал навстречу гостю князь Мелехов, раскинув объятия, в которые, впрочем, ловить Виктора и не собирался, зная наверняка, что тот как-нибудь, да уклонится. – А я тут наслаждаюсь вашим подвигом, как старый пес дармовой костью. Сами-то мы уже, увы, не лаем-с, не кусаем. А вот вы у нас действительный герой.
– Вы ко мне несправедливы, – отмахнулся лейб-гвардии поручик. – Какой герой? Что тут, право, героического? Сплошной конфуз, если подумать.
Виктор закатил глаза, очевидно пережидая протестующий шум в обществе, где партикулярного платья и военного мундира было примерно поровну – с дюжину тех и других, исключая кисею и дымку дамских туалетов.
– Не клевещите на себя, – погрозил ему пальцем один из гостей, не менее весомый в свете, чем хозяин. Он хоть и справлял какую-то чуть ли не квартирмейстерскую должность, но та странным образом позволяла ему вершить судьбы «квартирантов»[16].
Благообразный старичок с белыми бакенбардами бодро вскинулся с софы:
– Весь Севастополь только и говорит о том, как гвардии поручик Соколовский вышиб французов и англичан из ложементов IV бастиона. Инда осерчал добрый молодец, и благословения командирского не испросив…
– Врут, – по-прежнему с иронической улыбкой, но твердо повторил Соколовский, опустив взгляд карих глаз с рыжинкой. – Во-первых, исключительно по приказу Павла Сергеевича; а во-вторых, Бог свидетель, я был всего лишь очевидец события. Подлинный же герой был другой, а я со своим ажиотажем только путался у него под ногами. Что ж ты врешь, любезный? – обернулся он к Лионозову, тут же состроившему комическую гримасу раскаяния.
Пристыдив приятеля, лейб-гвардии поручик прошел к хозяйке и, сунув фуражку в белом чехле под мышку, поцеловал руку в пышной манжете, рябую от старческих родинок.
– Наши ребятушки ловко били врага в ложементах, – продолжил Соколовский. – И верно, вести их в бой было сущим удовольствием.
Прикладываясь к ручкам дам и девиц, он не забывал всякий раз, распрямившись, отбросить назад густые волосы вороньего отлива.
– Мое почтение… – поручик пожал крепкую ладонь моряка с эполетами капитана второго ранга, после чего, наконец, перешел к самой сути рассказа. – Но надо отметить, что неприятеля мы били уже битого… pardon за тавтологию.
– Это как? – вскинул белесые брови моряк.
– Именно. Перед этим в ложементах разорвался камнеметный фугас, приведенный в действие подлинным героем дня, – адъютант Соколовский развел руками, как если бы сожалел, что не сам был тем героем. – Но вам, сдается, его историю уже рассказывали? – Виктор обернулся на Лионозова.
– Во всех подробностях, – подтвердил Федор. – О похождениях бравого штабс-капитана уже доложили-с. О смелом его маскараде, одураченных французах и красных штанах, едва не стоивших ему жизни.
Как-то сам собой подвиг штабс-капитана Пустынникова стал в обществе приключением, вызывающим больше веселья, чем сочувствия, тогда как суровая и подлинно героическая проза в лице генеральского адъютанта заставляла сильнее биться чувствительное сердечко.
Тяжело опустившись в кресло с резной спинкой, Соколовский поморщился, скрывая ото всех не то смертельную усталость, не то рану, втайне перевязанную, чтоб не отправляться с позиций в госпиталь.
– А что, где он сам? – оглянулся Виктор из кресла. – Я пригласил нашего героя, чтобы еще раз и публично просить у него прощения.
– Но… за что ж вам извиняться? – раздался девический голос, сорвавшийся на первом слоге, должно быть, от волнения.
– Что по горячности своей едва не сорвал его замысел, – ответил Виктор, нарочито не оборачиваясь, но знал, что особа, задавшая столь взволнованно этот вопрос, нарядилась сегодня как-то особенно обдуманно. Весь наряд – нежно-розовая дымка на белом накрахмаленном чехле, с довоенным богатством расшитая арабесками.
Меж тем парафиновой прозрачности щечки девушки залило румянцем еще большим, чем если бы гвардеец посмотрел на нее в упор, а Соколовский добавил, улыбнувшись краем рта:
– Впрочем, мы уже и объяснились с ним на поле боя сразу, и весьма оригинальным образом.
Севастополь,IV бастион– Какого черта! – прорычал штабс-капитан Пустынников, невольно раскинув руки, как будто все еще сдерживал напирающую толпу пехотинцев. – Разве уже был приказ к наступлению? Откуда вы здесь прежде сигнала?
– Ежели хотите приказ, то был приказ генерал-майора Шварца, – секунду подумав, парировал лейб-гвардии поручик, также удерживающий колонну поднятой над головой саблей. – Решение было принято и командиром бастиона. А сигнал… Что еще за сигнал? – недоуменно наморщил он лоб под лакированным козырьком фуражки.
– Да вот этот… – штабс-капитан выдернул из прорезного кармана шинели газовый шарф алого перелива и, насадив его на острие французской шпаги, отчаянно замахал в сторону бастиона, отбежав от колонны на открытое пространство.
Вокруг него тут же взвились пыльные дымки вражеских пуль…
– Есть! Есть сигнал, ваше благородие! – едва не вывалился за бруствер кондуктор минного отделения Горохов, прихваченный мичманом Коганом, чтоб рассмотреть сигнал с бастионного вала.
Сам-то Коган даже на расстоянии вытянутой руки мало что мог разглядеть и едва ли видел командира бастиона – к которому обещался бежать, как только станет известно что-либо о судьбе предприятия штабс-капитана Пустынникова, – хотя капитан 1-го ранга был всего в десяти шагах от него, в орудийном дворике 32-й батареи.
Коган все же добежал, но только направленный в нужную сторону бесцеремонным тычком своего кондуктора.
– Есть сигнал, ваше высокоблагородие! – прокричал мичман, очутившись перед Раймерсом. – Можно взрывать!
– В том-то и дело, – озабоченно глянул на него Павел Сергеевич. – … Можно ли?
Он раздраженно потеребил кончик полуседого уса и махнул ладонью куда-то вниз, в оседающие облака порохового дыма. – Извольте-с видеть, этот вздорный мальчишка, генеральский адъютант, не дожидаясь приказа, вывел батальон в ложементы. Герой, куда нам, убогим-с!
– Однако они стоят, Павел Сергеевич, – оглянулся на него собственный адъютант, отняв от глаз складную подзорную трубу. – Батальон стоит перед ложементами, сразу за валом, отстреливается.
– Вот оттого и машет штабс-капитан! – оживился Коган, изображая рукой сигнал, поданный снизу алым шарфом. – Не стал бы Илья Ильич подвергать людей опасности, значит, можно!
Он осекся, услышав походный бой барабана, казалось, разметавший клубы дыма над редутом.
Все обернулись. Командир бастиона быстро вышел из орудийного дворика к краю дощатого настила, тянувшегося вдоль батарей, перегнулся далеко за жерди перил, или, по флотскому обычаю, – лееров.
– Ну, пожалуй, и впрямь можно-с, – пробормотал он спустя пару секунд в усы и, отпрянув от жердей, повторил: – Кажется, можно. Как раз тобольцы подошли. Действуйте, Антон Михайлович!
– Аарон Моисеевич, – проворчал мичман и командир минной команды, скатываясь с батареи по трапу.
Прошло совсем малое время, и земля ударила в подошвы сапог, заставив пошатнуться колонну, упрямо стоявшую под пулями неприятеля, едва прикрывшись неровностями местности, благо, что картечь полковых пушек, доставленных французами в ложементы чуть ли не на руках, до колонны не доставала, как, впрочем, и ядра тяжелых батарей, перелетавших на бастион.
Сразу после встряски громыхнуло так, что бывалые воины принялись зевать, чтоб вернуть слух, а над ложементами вскинулась и осела земля и стали разрастаться рыжеватые клубы пыли и дыма.
– Вот теперь геройствуйте, поручик, – облегченно выдохнул Пустынников, пряча шарф за пазуху нательной рубахи, совершенно потерявшей первоначальную белизну.
– А шарфик-то, пожалуй, девический? – не к месту то ли поинтересовался, то ли констатировал Соколовский, насмешливо щурясь из-под насупленного козырька фуражки, однако не дождался другого ответа, кроме предостерегающего взгляда исподлобья.
Еще мгновение подумав, поручик кивнул:
– Виноват. Pardon за бестактность. Не составите ли компанию? – острие драгунской сабли адъютанта указало на стену из плетеных тур, быстро зарастающую дымками ружейных выстрелов.
– Отчего же… – скинул наконец вражью шинель штабс-капитан и, перехватывая половчее пехотную шпагу с широким лезвием, заметил без видимой язвительности: – Теперь, пожалуй, ваша поспешность будет более уместна.
– И вам советую, – хмыкнул лейб-гвардии поручик. – Поспевайте.
Севастополь,столовая князя Мелехова– Свалка произошла жесточайшая, – заключил Соколовский уже в самозваном офицерском собрании князя Мелехова. – Так что оглядываться мне было, право, некогда, но я все же не мог не заметить, что штабс-капитан сражался как демон. Да и как не заметить, господа, если французы и англичане попросту от него разбегались, как от родителя с розгами.
Переждав смех, рассказчик будто отмахнулся от чьих-то назойливых восторгов:
– Впрочем, вполне насладиться этим зрелищем мне не довелось. Все закончилось прежде, чем неприятель успел перезарядить штуцера. Так что…
– Да вас послушать, вы как будто на эскизах были, – покачал головой один из тех штатских, кто воленс-ноленс был обделен участием в битвах и оттого обречен на лесть. Иногда завистливо-мрачную.
Но гвардии поручик воспользовался и ею:
– Так и в самом деле! – развел он руками. – Ничего достойного пера литератора или кисти художника. От одного штыка я увернулся, кого-то махнул саблей по горлу… Прошу прощения за натурализм, – кивнул он дамам, приложив руку к сердцу и опять нарочито не замечая расширенных вечерне-синих глаз. – Вот и все. A la guerre come a la guerre…
И столько было обыденной доблести в этих его словах, что любой, кто был на бастионах, мог с полным правом прибавить свои несколько слов, а если участвовал в деле, то и встать рядом в медальонный профиль, как сейчас у Виктора, задумчиво устремившего взгляд в дымы и пламя минувшей битвы.
Завороженная этим профилем, та самая девушка с парафиновой прозрачности щечками даже не почувствовала, как глаза ее увлажнились, а когда спохватилась, то не могла найти платка в лифе и оттого, вскинувшись с софы, едва не выбежала из залы, шурша юбками розовой дымки.
Записки русского хроникераКняжна Мария Мелехова, еще вчера считавшаяся ребенком, только сегодня вышла в свет, обнаружив при этом самое непринужденное воспитание и, как следствие, полную свою неготовность к роли невесты. То ли старый князь Дмитрий умиленно потрафлял ее непосредственности, не беспокоясь, как она покажется в обществе, то ли мать полагала, что должные таланты проснутся в Машеньке сами собой. Но не случилось…
Роль невесты для княжны оказалась так нова, как если бы она никогда не играла в куклы, не держала под подушкой зачитанных до дыр романов и не переписывала в альбом элегий, украшенных виньетками из роз, голубков и сердечек.
Да оно так и было, пожалуй, поскольку в друзьях отрочества у княжны были все больше дворня из числа отставных унтеров, весь остаток жизни починяющих княжеский экипаж, да старух-солдаток времен Отечественной войны, с их бесконечными сказками на кухне о прежних временах и о деревне. Одним словом…
И были детские проказыЕй чужды: страшные рассказыЗимою в темноте ночейПленяли больше сердце ей[17].И в течение года предвоенных выходов делалось ей в свете так неловко и неуютно, что впору было по детской памяти лезть под стол, чтоб оградиться от чуждого мира гостей бархатом и бахромой скатерти. Однако, к завистливому раздражению прочих претенденток, неловкая как в танце, так и в разговоре, Машенька была титулована мужской половиной собрания «прелестной дикаркой» и, к ее несчастью, вниманием кавалеров обделена не была.
Княжна даже страдала от этого, мечтала о покое. Как вдруг, то ли под настроение войны, когда многие мужчины вокруг кажутся возвышенными героями, окрыленными славой и возможностью героической смерти, то ли с механической неизбежностью времени – пора уж! – но с некоторых пор стала она испытывать удушье и стеснение в груди. По странному совпадению удушье и стеснение случалось все чаще и чаще, причем тогда, когда в столовой зале дома Мелеховых стал объявляться он! От одного взгляда этого героя китовый ус корсета, казалось, трещал, не вмещая и без того чуть слышного дыхания.
Герой нечитаных романов, не похожий ни на кого, ранее встречавшегося, ранее выдуманного на беспокойной девической подушке. Такой настоящий, что невозможно было сообразить, что с ним… вернее, что с этим всем, необъяснимым и волнующим, делать. И, не умея придумать, Машенька грызла костяшки кулака, давилась то беспричинными слезами, то смехом, впадала в хандру, а то счастливо тискала рыжую свою кошку так, что та начинала проситься дурным воем.
Вот почему княжна не удержалась в добровольном заточении девической – ведь он был совсем подле, за стенами, за дверями с резными филенками! – и вернулась в залу.
Меж тем гости уже разделились. Дамы остались у медного самовара сплетничать, а мужчины прошли в кабинет-библиотеку князя составить партию в вист, но лейб-гвардии поручик Соколовский остановился в дверях, будто почувствовав Машенькин взгляд, обернулся.
* * *Девушка даже отшатнулась – так прямо спросили карие глаза его с рыжинкой, и так трудно было им что-либо ответить. Она запнулась, нервно сжав пальцами оборки юбок; мочки ушей, прикрытые прядками русых волос, поднятых на затылок, налились рубином. Она то отводила взгляд, то возвращала его, не умея справиться с магнетизмом Соколовского.
– Стоит ли, Виктор? – тем временем шептал тому на ухо прапорщик Лионозов. – Вы и без того чудовищно проигрались в собрании. Оставьте.
– Вот и верну, – раздраженно оборвал его гвардеец. – Ты дай только билет.
– Да я, конечно, – смутился прапорщик, живший отнюдь не на одно жалованье, поскольку состоял наследником здешней табачной аренды. – Мне не жаль, но… – Федор покачал головой, – тут ставки велики. А вы же помните, что писал вам ваш батюшка?
– Со старого тирана будет довольно знать, что векселей ему никто не предъявит, – досадливо поморщился Виктор…
…И приняв эту его неприязненную гримасу на свой счет, Машенька, как показалось ей, взломав паркет, провалилась под пол. Там уже, в сумрачном подполье своего сознания – а на самом деле идя из залы на кухню, к подружке своей, 40-летней Прокопьевне, поверенной во все ее тайны и печали, – она решилась объясниться во что бы то ни стало с Виктором и таким образом покончить со всем.
Пусть даже сгорев со стыда дотла.
Лондон,февраль 1855 годаВ серой, стального отлива, воде было разбито отражение огромного пароходного колеса, время от времени совершенно размытое «гусиной кожей» от снежной крупы, налетавшей с промозглым ветром. Это было колесо парохода Lion's Heart («Львиное Сердце»). Слишком тяжелый, чтобы слушаться мелкой речной ряби, он мрачнел почти неподвижно неподалеку от нового Лондонского моста на фоне его арочных пролетов, спустив паруса и бросив трапы на дебаркадер крытой пристани Royal Victoria Port – порта Королевы Виктории. Этот порт, как и пароход, – тоже новостройка столетия. Косая насечка кровельного железа на чугунных столбах с капителями ажурного литья, под которыми все двигалось, шумело и торопилось муравьиной сутолокой докеров и экспедиторов разных ведомств, недружно занятых снабжением Крымской армии.
Мэри едва успевала подобрать не такой уж и широкий дорожный кринолин, чтобы уступать дорогу то катившейся с грохотом бочке с гербом старинной Eagle Whiskey Company, то тюкам запоздалых полушубков и шинелей с пелеринами, то подводам, груженным деревянными флягами, и вовсе уж непонятным корзинам, полным заметно подгнивших апельсинов.
NOTA BENEСамый прогрессивный консерватизмЕсли о снабжении русской армии в литературе принято высказываться критически, то снабжение английской тем только и выигрывает, что никакой критике не подлежит вовсе. Это единственная армия, явившаяся на театр Восточной войны без обоза. Без тыла. Причем не образно, а буквально. Сколько-нибудь организованного тыла британская армия не имела, что, впрочем, не так уж и удивительно.
Если главной бедой нашей армии называют крепостническое устройство России и, как следствие, техническую отсталость, то при самом прогрессивном государственном правлении великой Британии, при высочайшем на тот момент уровне технической оснащенности ее армия зиждилась на традициях совершенно средневековых. По сути, это была ленная привилегия дворянства, укреплявшая королевскую власть в противовес парламентскому своеволию. Отсюда и нелюбовь к армии со стороны парламентских институтов, поскольку, как известно, своим историческим существованием английская демократия обязана прежде всего отсутствию в Англии сколь-нибудь регулярной армии вплоть до Нового времени.
Впрочем, и в XIX веке королевская армия рассматривалась как всего лишь полицейская сила для карательных операций в колониях. Отсюда и непрофессионализм нижних чинов, который ниже всякой критики. По сути, это был добровольческий сброд, чья дисциплина обеспечивалась больше поркой кошками, чем сознанием долга. Что же касается офицерства, то кастовая заносчивость ставила его как над солдатской массой, так и над военной наукой[18].
К примеру, командир английского полка являлся не столько полководцем, сколько подрядчиком, снабжавшим свой полк амуницией по той цене, которую сам назначит своим подчиненным, а извлекаемые отсюда барыши составляли едва ли не единственную причину пребывания на службе. Ротами и батальонами офицеры торговали, за плату участвуя в разных сомнительных предприятиях, чтобы обеспечить себя при выходе в отставку, как в эпоху Лувуа. О назначении на те или иные командные должности за таланты или отличие речи просто не шло – королевский патент на воинскую должность покупался, как доходное торговое предприятие.
Вот почему о каком-либо централизованном снабжении говорить тоже не приходилось. Тут священное кредо невмешательства в дела частного собственника и свободы частной инициативы сыграло с империей злую шутку. И даже высшая администрация не могла поправить положения ввиду того, что управление Королевской армией было разрозненным.
Являлась ли при этом королева подлинной матерью для армии, вопрос спорный, но то, что парламент являлся мачехой – определенно. Зависящее от него министерство колоний обладало правом давать армии любые оперативные приказы. Первый лорд казначейства предоставлял транспорт, а также заведовал продовольствием, но при этом статс-секретарь министерства колоний ведал денежными ассигнованиями и, таким образом, сосредоточивал у себя значительную часть военного бюджета. Печальным итогом такого разрозненного управления было то, что в связи с отсутствием какого-либо санитарного обеспечения, отвратительным продовольствием и отсутствием теплой одежды английская армия в Крыму в зиму 1854–1855 годов положительно вымерла от эпидемических болезней и истощения. Один английский батальон смог выйти на смотр в составе всего восьми человек.
Тут пенять на жесточайший шторм 14 ноября, утопивший союзные транспорты с теплой одеждой и медикаментами, особо не приходится. Сообщение между Британскими островами и Крымским полуостровом было регулярным и вполне налаженным. Вот только везли абы как и бог весть что. Везли то, что частным подрядчикам удавалось всучить военным ведомствам.
Положение в корне изменилось лишь в начале 1855 года, после скандала, разгоревшегося в прессе, и последовавших за ним не менее скандальных слушаний в парламенте.
Впрочем, юная Мэри Рауд, растерявшаяся среди самых разнообразных и порой нелепых грузов, отправляемых в Крым на борту «Львиного Сердца», мало что понимала в военном снабжении, да и откуда бы такое в восемнадцать лет, резво пробежавших по песчаным тропкам регулярного парка[19]?
В очередной раз посторонившись из-за ящика, в щели которого виднелась упаковочная солома и даже синий помпон поркпая[20], заметно утратившего в парадности по сравнению с «Альберт-шако», путешественница оказалась у самого швартового кнехта и увидела свое отражение в ртутном зеркале реки. Темза на мгновенье притихла в ожидании нового порыва ветра, и сама Мэри притихла тоже…
В классическом контуре «песочных часов» девушка даже не сразу узнала себя, и пусть водное зеркало было слишком мутным, чтобы отразить мелкие черты, воображение дорисовало их, и Мэри отпрянула. Мертвецки-бледное лицо, скрытое в меху по самый нос, вокруг которого милая россыпь веснушек наверняка казалась теперь брызгами порыжелых чернил. Серые глаза расширены, как в припадке безумства. Рука в перчатке, стискивающая ворот ротонды[21] под горлом, заметно дрожит, то ли от холода, то ли…
Девушка еще не оправилась от того, что видела не далее как полчаса назад в Гринвиче, откуда ее привез в Лондон-пулл[22] «речной кэб» – крохотный паровой катер с осадкой иного плота.
«Господи милосердный, – думала тогда Мэри, стоя на площади Инвалидного дома, на этих серых плитах между колоннадами корпусов Карла и Вильгельма. – Если это выздоравливающие, то есть те, над кем крыло смерти уже пронеслось, не покрыв с головой шинельным сукном, то каковы должны быть другие, еще остающиеся на больничной койке, – те, над кем колдуют доктора, кого еще ждет пила хирурга».