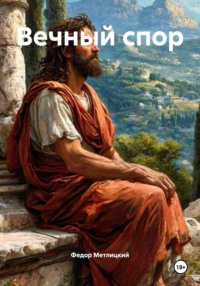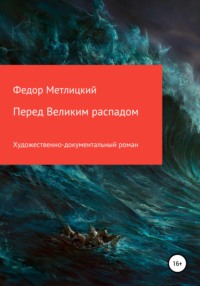Полная версия
Родом из шестидесятых
Наш круг собирался в журнальчике, не выделявшемся среди других государственных изданий. Меня тянуло туда, из мучительной потребности вырваться из неразделенной любви.
Менее пуганые, чем старшие, мы были дети "оттепели", жили ее поэзией, запрещенной литературой, в том числе диссидентов-зэков, доходящей до нас в «самиздате». Думаю, что на нас сильно повлиял первый полет Гагарина в космос. Вспомнил, как мы с приятелями, еще студентами, в людской реке вдоль всего Ленинского проспекта встречали весь в цветах кортеж, где ослепительно улыбался Гагарин. Голос Левитана на всю Красную площадь, многократное "ура!", разноцветные плакаты: "Космос – наш!" Нездешняя чистота московского воздуха и растворенная в нем человеческая радость, как писали газеты. Невозможно было узнать раньше брюзжавших людей. Грубые лица работяг тянулись к ослепительно улыбающемуся лицу с таким восхищенным вниманием, какого не предполагали в себе раньше. Объятия, поцелуи песни, водовороты плясок. Солидные люди на крышах, на деревьях. Кто-то с цветами продрался сквозь толпу и вручил их Гагарину (сейчас нельзя этого представить, снайпер снял бы в мгновение ока).
Толя Квитко со слезами на глазах клялся: "Пока не увижу Юру, не уйду!" Батя нес изготовленный им самим плакат: "Радость какой измерить меркой? Завидуй, Америка!", и под маркой всеобщей радости целовал какую-то красавицу взасос.
Программы телевидения полетели к черту, ТВ, как пьяное, перешло к чистой импровизации – такого еще никто не видел, и больше не увидит.
К глазам подкатывали слезы. Казалось, стала доступна вся вселенная, и мы быстро освоим ее!..
Но, странно, быстро привыкли. Когда позже наша ракета облетела Луну, рабочий автозавода добродушно сказал: "Летит? Ну и х… с ней, пусть летит". Это не касалось его жизненных интересов. Но в нас полет первого космонавта осветил будущее каким-то безграничным лучом света.
____
Заканчивалась оттепель, поднявшая волну «шестидесятников». Литературная жизнь снова вошла в привычное русло, дневала и ночевала на всесоюзных ударных стройках. Газеты писали: «Самое лучшее, что есть в человеке – радость творческого труда… когда видишь прокладывающего борозду – этот человек прекрасен». Воинственно отмечали подошедшее 50-летие советской армии и ВМС, по-ницшеански вознося солдата-сверхчеловека. Поэты-романтики оставляли «автографы комсомола на планете» – на фестивале молодежи.
Во мне не возникало такого чувства. Откуда они выжимают источник вдохновения? Из героизма на прошедшей войне? Но это другой источник – войны, а не мирного времени. Это надо же уметь перебрать в душе все постоянно употребляемые струны и найти струну, замаскированную под свежую и новую!
Мы тогда не спорили – можно ли жить и работать в нынешней структуре власти и быть честным, или нельзя обустраивать тюрьму. Вопрос так не стоял, ибо деваться из земной юдоли можно было только на тот свет. Все жили в тюрьме и обустраивались в ней. Это было во все времена. Если бы не выходили из любого положения, человечество бы не развивалось.
Раньше я не находил никого, родственного духу, кроме, конечно, умерших классиков XIX века, и диссидентов, изумляющих совсем другим взглядом на нашу жизнь. Но сейчас открылось, что я нашел живых близких людей, и почему-то среди них становился расслабленным, благодушным, наслаждаясь их дерзкой независимостью. Мой романтизм, раненный ужасной реальностью, был и у них. От этой жуткой реальности мы хотели улететь.
____
Юра своим подбирающимся к собеседнику говорком рассказывал о кружке заговорщиков в университете. Его приятель в 53-м поступил на филфак, в 57-м поперли. Он был в кружке, которым руководил один профессорский сын Колька. Устав был, программа. Узнали: Колька в КГБ имеет кого-то, и у него признали расстройство головы. Два месяца в Матросской Тишине, и снова в университет. Другой главарь – три года отсидел.
– Что там, Ницше читали? Шопенгауэра? – загоготал Батя. – Может, еще биографию Евтушенко?
– Нет, "Доктора Живаго".
Гена Чемоданов спросил:
– Это карманную книжку, изданную там без реквизитов издательства?
– Нет, отпечатанную на машинке, на папиросной бумаге.
Поносили руководство родного университета.
– Страшный маразм! Консерваторы. Вот был профессор Бонди – это да.
– Услышишь Бонди, станешь на всю жизнь бондитом! – ржал Батя. Колченогий Байрон кричал:
– Милославский? Подонок! Все лез в секретари комсомольской организации, и никто его не заблокировал.
– А помните всегда споривших правоверных доцентов Ухова и Нахова? – влезал Батя. – Нахов Ухову сказал, Ухов Нахова послал.
Вспоминали о протестах в мире. Костя восхищался Антониони, коего интервьюировал ловкий, могущий пройти между капель Генрих Боровик. Тот делает фильм о молодом протестующем поколении американцев. «У них протест глубже, чем у англичан, но – нет отчаяния».
Ощущение, что мои приятели тоже не выносят застой, в какой-то мере облегчало мою безысходность.
Правда, они тоже не знали, что хотят найти.
Как обычно, спорили о литературе.
Толстый Матюнин авторитетно высказывался:
– Чехов крыл Тургенева за "Отцов и детей", а сам своего фон Корена оттуда взял. Сейчас уже ясно видно, в чем нетипичен Базаров, где авторская выдумка не обобщает. Тургенев хотел показать новое мироощущение, сам сомневаясь – нужна ли поэзия, Пушкин, любование природой. Сейчас уже знают, кто такие рационалисты.
– А вот Лев Толстой оценил женщин Тургенева, – возмутился я. – Таких не было в жизни, но они стали после его романов.
Гена Чемоданов имел свою точку зрения:
– Блок в 31 год понял, что надо выходить из туманов в реальность. Улетая в утопию, снимающую стресс, романтики могут тянуть реальность к свету, но и уйти в мистику Золотого тысячелетнего царства, вплоть до фашистского Третьего рейха. Философ Мамардашвили утверждал, что двадцатый век – век чудовищного отвращения мыслящих людей от сознания, нужно восстановить в себе историческое сознание.
Раньше я не терпел бесстрастных «бытовиков», то есть натуралистов в литературе. Считал, что главное – выражение сильной эмоции, только и способной проникнуть в читателя. Но сейчас сомневался, слова Гены колебали, нужно ли полагаться только на субъективные эмоции.
Гена задумчиво сказал:
– Нужно очень поразмыслить над временем. Почему литература, искусство отошли от идейной и политической борьбы, превратились в искусство Горациев?
____
Тогда у литературы было одно, провозглашенное самой системой, подавляющее все направление – "приподымание" советской действительности. Это направление утверждала литературная теория, выдуманная, потому что империи хотелось выглядеть лучше, пряча скелеты в шкафу, – социалистический реализм, якобы берущий лучшие спелые яблоки, а не дички, и где разрешалось лишь одно противоречие – между хорошим и лучшим. Это был некий выверт в правдоподобие, а попросту натужное вранье – в романтическом "приподымании" действительности в литературе, положительном герое и т. п.
Мы на дух не выносили этого лицемерного «приподымания" у советских поэтов и слишком серьезных романов маститых писателей с «крепкими седалищами», с их трогательными концовками изображения съездов победителей, удовлетворенных после жестоких боев с врагами революции. Это была мимикрия под «Оду к радости»: «Обнимитесь, миллионы! Слейтесь в радости одной!» Бетховен по стихам Шиллера сочинял это ослепшим, перед смертью. А поэт Фет написал: «Шопот, робкое дыханье, трели соловья» через год, очнувшись от молчания после гибели его любимой. Подкладкой к радости была трагедия человека.
Пыталось пробиться другое направление – неофициальное и гонимое: изображало драматическую правду жизни, уходящую в иносказательную глубь, чтобы существовать. Оттуда было появились ростки советской сатиры «новых Гоголей и Щедриных», провозглашенной Маленковым, но авторы были арестованы или изгнаны за границу.
Странно, что в то время господства социалистического реализма, отменившего все самодержавное и буржуазное, была разрешена старая гуманистическая литература, в сущности призывающая к свободе, как и изгоняемые советские барды, которая проникла в наши души. По сути классика, свободолюбивый камер-юнкер Пушкин, корнет Лермонтов, – это враги режима. Но эту суть молчаливо обходит расстрельная критика, их даже лицемерно чествуют, как своих, наверно, из-за критики дореволюционных устоев, или склонности народа к неопровержимым нравственным качествам.
Наверно, классика и была зарядом замедленного действия, который разбудил революцию, снова вспыхнул во время великой отечественной войны, тлел и в тех шестидесятых, чтобы в дальнейшем обрушить систему. Тогда ее еще не покрыл легкий пепел новой эпохи после мировых войн, и холодных, и гибридных. Против лома нет приема, и грубый топот сапог по душам показал всю бесполезность морали литературы, да и сама она стала предметом купли-продажи или просто развлечением, не имеющим отношения к серьезности положения населения. А весь интерес населения, ввиду бессилия решать вечные вопросы, перелился в мгновенно усвояемые живые картинки кино и телевидения.
Запертые к клетке социалистического реализма, не зная другой литературной жизни, мы лихорадочно искали что-то в книгах классиков, чьи гуманистические идеи представлялись неувядающими и вечными.
____
Главред Костя Графов, наконец, сложил бумаги и махнул рукой.
– Пошли пить.
Шумя, вышли на улицу, серую и грязную в перспективе. Тогдашние улицы были естественно грязными и бесцветными, с громадами по бокам нереставрированных, тоже серых зданий, – они не были теми чуждыми новоделами и отреставрированными яркими зданиями, что стали сейчас, в начале XXI века.
Батя, в шляпе аспидного цвета с коротенькими полями, шагал, вдохновенно декламируя в сумрачное небо.
И снятся мне горячечные сны,Проносятся дымящиеся кониПо краешку нетронутой весны,Распластанные яростью погони, —Аж крестятся старушки на иконы…
Гена Чемоданов морщился:
– Что это у тебя за романтическое желание подраться?
Костя, после брошенных только что редакторских трудов, облегченно кричал:
– А-а! Я написал сценарий. Первый раз. Приняли. Книгу рассказов тоже. Пс-х-ха! Купил гуся, жена коченеет от гуся, и кучу денег домой принес, а все равно атаку выдержал, пс-х-ха!
По пути, между маленькими потасовками, авторы непризнанных произведений пытались увязаться за девушками, повинуясь инстинкту.
Зашли в привычную "Стекляшку" на Волхонке. Сюда приходила разнородная публика, от разных организаций, расположенных вблизи, в том числе и офицеры генерального штаба, мощное здание которого располагалось поблизости. Обычно разливали вино из крана, отчего забегаловку называли "Безрукий".
Заказали, как и остальные посетители, по стакану "солнцедара" и по соевому батончику на закусь.
Гена Чемоданов замахал руками:
–У меня печень, и жена ждет.
Повторили. Еще раз повторили.
Распаренный от выпитого, Байрон, падая в сторону короткой ноги, излагал свои литературные изыскания. Чехов тщательно выписывает и – злее Достоевского, который показывает людей великими, злодеями или страдальцами за род человеческий. А Чехов – мелкими, ничтожными интриганами. Он, ведь, равнодушен к человеку. Недаром об этом говорили современные ему критики.
– Неправда, – возмущался я. – Он хотел видеть в них возможности, тосковал о небе в алмазах.
Вышли отлить в подворотню. Батя, худой, с хищным носом, признавался:
– У меня есть общая идея, готовлюсь пока. Когда-нибудь выдам роман, за один месяц. Пока не знаю, в третьем лице его писать, или от первого лица.
– Будешь гением одного месяца? – серьезно спрашивал Коля Кутьков.
– Да, гением одной ночи. У меня идея – о культе. Но сейчас не пойдет, изымают все про культ. И беспокойство душевное не дает писать. Мысли о другом. Жду момента.
– Мысли о бабах, – усмехнулся Коля.
Батя ударил Колю по плечу.
– Я уж полгода не работаю. Святым духом питаюсь. Представляешь, уже полгода не раздевал женщину.
Говорили о проблеме современного альфонсизма, ярко выраженной в Бате. У него самая большая беда – отсутствие близости с женщиной и близость к "Стекляшке" на Волхонке.
– А ты? У тебя с этим все в порядке? – грозно вопрошал Батя.
Коля, красивый, в мохере:
– Да, бросаю пить. Только сухое. По утрам зарядка с гантелями. Организованность нужна. С женой? Нет, не поладил. С ней все. Нужно знакомиться с молоденькой. Те, что за 25 – все стервы, все трубы прошли.
На улице дождь, холодный апрель.
Коля приставал к Бате:
– Ты позвонил любовнице, чтобы разделась голой и ждала тебя?
Батя радостно заржал. Коля кивнул на улицу впереди.
– Батя, вон твоя Фекла прошла с фраером. Кстати, эта б… не только тебе давала.
Батя вознеся в гневе:
– Не люблю такие безапелляционные приговоры! Б…! Надо добрее к людям.
– К такой твари – добрее. Каждому дает, как животное.
– Женщины ищут, – возразил я. – Причем тут твари? Если хочется семью, и нет счастья, то почему бы нет?
Я вспомнил свое положение, и стало больно.
– Да брось, каждому – это скотство… Я крестьянин в душе, и по прошлому. Такое скотство мне не нравится. У меня в юности случай был, с такой вот. Привязался к ней крепко, а она – каждому. Тьфу! Ненавижу.
– Не догадываешься, почему? Тебя просто не любили.
Я был у него в общежитии. В его комнате старинные иконы (он отмыл подобранные в избах), прялка, гребень, лапти, маленький колокол XVII века, изготовленный Василием Бородиным, черпачок Ивана Грозного.
– Батя, вот она опять! Ишь, глянула, и отвернулась. Говорил тебе, с пижоном очередным. Зонтик яркий, а глаза пустые. Точь-в-точь, как в юности. Тьфу!
Пьяный Матюнин заплетал языком:
– Все вы – подонки. Везде оставляете детей. Если связал судьбу – тяни до конца. Семья будет главным и в будущем.
– Это ограниченность обывателя! – вдруг разозлился Коля.
Мне показалось опасным – узнать что-то о себе в плане семьи, эгоизма, идеала.
Если бы бог обнажил души мужиков, закрытые в отношениях с женщинами, словно толщей мутной воды, приспосабливающиеся ко дну, то обнажилась бы такая тина, такой харассмент, чего они никогда не выдадут, хоть вешай их вниз головой.
Мои друзья были в вечном жестоком противоречии ранимых писателей, пусть даже и графоманов, со своими женами и тещами, требующими заботиться о семье.
4
На работе мне было легче, так как, слава богу, мог не открываться своим сокровенным, – никто бы и не понял. И они не хотели бы открыться, чтобы не плюнули в святой колодец.
Наш отдел находился в подвале, в длинной комнате под высоченными круглыми сводами. Наши эксперты проверяли во всех районах страны качество партий различных товаров, производящихся в Советском Союзе и за границей. Здесь был особый канцелярский дух новой власти, уже устоявшейся и привычной.
Вдоль стен – столы сотрудников. У двери, загороженная шкафом, смиренно сидела полная, хищно красивая Ирина, консультант. У нее чудесная прическа, не похожая на «халы» наших сотрудниц, что-то под западных актрис.
Татьяна Прохоровна, начальник отдела, сидящая впереди как бы во главе столов, крупная женщина с ярко накрашенными губами и по-девичьи веселая, отчитывала эксперта:
– Так нельзя, Пантелей Власович! Я, как юрист, говорю: надо иметь мужество признать ошибки… Мы защищаем с вами неправильную экспертизу. Эксперт должен записывать в акт то, что видел. Если гвозди – 100 мм, значит, так и пиши. Повторная экспертиза подорвет наш авторитет.
Она встречала меня как сыночка.
– Какой ты худенький!
И, опекая, причитала.
– Что ты у меня бледненький такой?
Кадровик и секретарь партбюро Злобин, громыхая дверцами металлического несгораемого шкафа, добродушно приговаривал:
– У Венюши слишком юное лицо, хотя окончил институт. На нем ничего плохого не отражается.
Он тоже опекает меня.
– Я его тяну. Старики говорят, молод еще, мало работает. Ишь, за него тут, а он бездельник. Ленив ты, Веня, ох, ленив! Я говорю шефу – первый пункт у нас тут Венюша не выполняет: «Никогда не опаздывай, когда приглашают!» Остальное всегда выполняет, особенно когда выпить приглашают. И не читай за столом… Эх, ты, это же для тебя лучше – за границу легче поехать. Если бы ты был экспертом по качеству, хоть завтра бы тебя оформил…
– Я знаю больше, чем вы думаете, – подыгрывая, ворчал я. – Премии-то мне вы, вы не дали. За то, что не веду общественную работу. А у меня большая нагрузка, я главный редактор стенгазеты.
– Мм… Да ты… в рабочее время ее выполняешь.
– Как все.
– Вот-вот. Да еще личными делами занимаешься. Кстати, будешь моим заместителем по комсомолу?
Я думал: да, в раба превратит. К такому – лучше подальше, затыркает.
Напротив меня – с горделиво поднятой головой насмешливая Лариса, схватив руками плечи:
– Я страшная трусиха! Кошмары снятся. Хотя в детстве не хотела быть девчонкой, до 15 лет стриглась наголо. Мне подруги доверяют все тайны, я такая – не выдам.
– Брось, – робко говорил я. – Тебя самую боятся.
Вначале она мне нравилась. Но та вглядывалась в меня.
– В тебе, между прочим, есть что-то лисье, в нижней половине лица. А выше – хорошее лицо.
– Неправда, – засмеялась Прохоровна. – У него и моего сына затылки одинаковые, виноватые.
Лариса разоблачала меня:
– Раньше ты казался интереснее, но уважения было меньше. Почему? Натянут, напряжен с людьми. Ну, поговоришь с тобой, ты мне любопытен, узнать человека хотелось. А отойдешь, и с облегчением. Я равнодушна к тебе, нет желания видеться. Впрочем, не люблю, когда привыкаю к людям. Чувствую себя хорошо, сама собой, когда люди новые.
Мы были разной крови – она презирала меня, якобы, за мой похотливый взгляд на нее, и я оскорбленно презирал ее, не знаю за что. Она не понимала, почему я так неуклюже, что ли, разговариваю. "Мой Борис толково говорит, и очень округленно, плавно".
Сидящая сзади меня Лида, подруга Ирины, затаившейся за столом у двери, при первой встрече год назад показалась мне злой. "Ты, наверно, порядочный". Я подтвердил. "Все вы, мужья… Трудно с вами женщине. Такая природа, что ли?» «Мы разные» – сказал я. «Да, конечно, мы разные".
Она, еще привлекательная, с интеллигентной внешностью, закрывая шарфом шею вполголоса передавала мне сокровенное, когда никого не было рядом (я был ее доверенным лицом):
– Да, жизнь… Ждешь, ждешь, а счастья нет. Вышла замуж, так, не по любви. Развелась.
Она вздыхает.
– Развелись давно, он женился. И все ко мне приходит. Не могу, говорит, от тебя отвыкнуть. Я ему: «Подонок, не нужен ты мне, чего ходишь?»
Внезапно, с тусклым взглядом и опущенной бессильно душой. Я жалел ее.
– Ты что-то скрываешь. Видно, еще не все кончено у вас.
– Да нет. Из-за него настроение такое бывало, что жить не хотелось. Соседи даже послали заявление в милицию. Меня вызвали: муж бьет? Я испугалась, все-таки милиция. «Да нет, бывают ссоры, так что ж такого…». В общем, выручила. У меня характер такой – всех жалко. А вдруг он в тюрьму сядет?
Она пригорюнилась.
– Всю жизнь так. Был один, идем в кино, вдруг кто-то из знакомых навстречу: «Лидка, ты?» И руку на плечо. Он же не знает, что у меня новый. А тот начинает: ты такая сякая… Думала, вот придет счастье – полюблю кого-нибудь, и будет тогда жизнь, а это "пока" – временно. Прожила долгую жизнь, и поняла: и там потеряла, и тут ничего нового не пришло. Хочется встретить человека, который бы понимал… Моя мечта – боготворить кого-то, изумительного, единственного. Все-все могу отдать, всю себя.
– Ну, допустим, мечта осуществилась, – скрыто иронизировал я. – А дальше?
– Всю жизнь буду боготворить.
– И все?
В ее глазах непонимание.
Вслух, при всех, она объявляла:
– Верчусь, вот, на общественной работе. Кружки у меня – ужас работы. Я талантлива во многом, но за что взяться, не знаю. Купила краски, буду снова писать. Или петь. Но – не пробьешься. Перешла в эксперты. Нет, не совсем то, о чем мечтала. Да-а, так все…
Прохоровна осаживала ее.
– Болтаешь, а надо действовать. Вон, Лариса – у нее ребенок, а – язык выучила. А Лиля – консультантом стала, так как занималась, работала.
Рядом со мной стол Лили. Когда мы знакомились в первый раз, она спросила: «Вы пьющий?» И зарделась – сморозила. «Как вы догадались?» – спросил я. Она показала мне книжечку о психологии алкоголика. «А знаете, вы не кажетесь начитанным», – и в краску. У нее манера: говорить правду, тут же пугаясь откровенности, и собеседник теряется.
Она с красными от слез глазами. У ее деда желтуха, а с ним ее ребенок. Что делать, оставить некому. Шеф следит за всеми, чтобы не уходили раньше.
– Тяжело с родителям. Они с дедом – обвиняют меня. Саша похудел – не кормишь. Саша потолстел – что-то нездоровое. Во всем меня обвиняют. Неужели все такие?
Я бегал к шефу просить за нее. Та вслед:
– Шеф каждого вызывает поодиночке, и поручает следить за приходом сотрудников на работу.
Тот встал, и сурово:
– Я сам у Президиума отпрашиваюсь. Это Прохоровна на вас отрицательно влияет.
Сзади стола Прохоровны, около меня, тянулась к ней крепенькая фигурой Лидия Дмитриевна, доверительно говорила ей:
– На всю жизнь предубеждение против грузин. Без очереди лезут, говорят: «Нам сзади женщин стоять нельзя, мы темпераментные».
И вздыхала.
– Встречалась с Семеном Моисеевичем, из канцелярии. Чуть замуж не вышла. Если бы он не был евреем!
– А что так? – спрашивала Прохоровна.
– Они трусы. Предадут. Без души. В концлагере, в Польше, спровоцировали восстание, а сами в сторонке дрожали. А кто был в партизанах Белоруссии? Не они. Они-то у своей кучки золота. Или банкет устроил Хайм, на какие деньги? Ясно, за всю жизнь такие деньги не заработаешь. Все – аш-баш. А в американскую войну…
Глазки ее загорелись.
– Один – окончил школу генерального штаба нашу, герой Советского Союза. Сейчас – начальник штаба войск Израиля. Методы – фашистов, а тактика военная – наша. Теперь строжайшее секретное распоряжение правительства – евреев не допускать в военные академии, и воздерживаться пускать за границу. Я не антисемитка, но такой у них характер.
Ее не любили, но спастись от нее в коллективе было невозможно. Как-то я спросил Прохоровну:
– Как вы можете с ней разговаривать?
– А что? – удивилась та. – Она жестока, но с ней интересно разговаривать.
Она напомнила виденную мной следовательницу, которая с удовольствием трепалась с пойманным бандитом и разбойником.
Эксперт Федоренко вмешался, булькающим голосом, от которого хочется прокашляться:
– А арабы – как намаз, так ружья бросают, подходи и бери их. А по воскресеньям офицеры с оружием – домой, к своим четырем женам. Попробуй, заставь остаться в окопах! А вы – дисциплина. Фанатики. Сам Насер молится, его по телевизору показывают, и весь народ молится.
____
На обеденном перерыве разговаривали о недавно введенной пятидневной рабочей неделе.
– Все женщины говорят, что стало еще хуже: муж пил один раз в неделю, теперь – два раза.
– А жена работала одна по хозяйству – шесть дней, теперь – семь.
Прохоровна охала, в заботах об учебе сына. Наняла учителей.
– Скажут – руку отрежу для него. А какой он был маленький! «Миканчик, хочешь сделать плюшку?» У него – колокольчик.
Мечтала о его будущем. Потом говорила о муже, стесняясь его невзрачности и маленького роста. Раньше жила все время с мыслью, что с ним – временно, полюбит другого – и уйдет. А сейчас смиряется, он с юмором. Ночью приснилось – умер, и плакала. Утром ему рассказала – он любил ее. Он на 10 лет старше, и, как к старшему, привыкла к нему. Ну и потому, что уйти свободно нельзя, ни даже остаться у подруги.
Она намеренно восхищалась своим маленьким и коротеньким нелюбимым мужем, чтобы оправдать себя в глазах других. О себе же говорила откровенно:
– А-а, ничего не приобрела. Никаких духовных интересов. Порастеряла только… Сын, вот, двойки домой приносит. Почему, не пойму. Слабенький, трудно ему. И не верит ни во что. Говорит: зачем все это мне?
– Надо его заставлять, – говорил я, не зная, что сказать.
– Да, заставлять… Как я его заставлю? Самое страшное, никто не виноват. Сама, только сама.
У нее покраснели глаза.
– Вот так, для себя любишь человека, а вырастает…Надо, вот, учебник ему достать. У тебя нет?
– Почему вы? Он сам не может достать?
– А-а…
У женщин в нашем отделе сложная жизнь. Поражало обилие мужских измен и отчаяние брошенных женщин. Я и сам чувствовал себя виноватым перед женщинами.