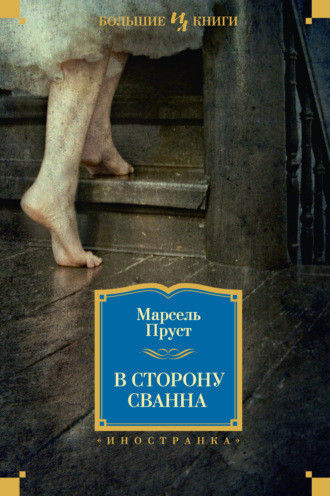
Полная версия
В сторону Сванна
Совесть моя успокоилась, я отдался на милость этой ночи, одарившей меня маминым присутствием. Я знал, что такая ночь не может повториться, что самое огромное в моей жизни желание – чтобы мама была со мной у меня комнате в печальные ночные часы – слишком противоречило житейским нуждам и желаниям других людей, и сегодняшнее его исполнение так и останется исключительным событием, нарушающим естественный ход вещей. Завтра тоска вернется, а мама уже со мной не останется. Но когда моя тоска унималась, я переставал ее замечать; и потом, завтрашний вечер был еще далеко; я говорил себе, что у меня еще будет время подумать, хотя это время ничем не могло мне помочь, поскольку дело было в чем-то таком, что не зависело от моей воли и казалось поправимым только потому, что еще отстояло от меня на какой-то промежуток.
Вот так долгое время, просыпаясь ночью и опять вспоминая Комбре, я видел всегда только яркое пятно, высветившееся посреди расплывчатых сумерек, как будто часть здания, выхваченная бенгальским огнем или электрическим лучом из окружающей темноты, в которой тонуло все остальное: основанием, довольно широким, оказывались малая гостиная, столовая, начало темной аллеи, по которой приходил г-н Сванн, ни о чем не подозревавший виновник моих печалей, и вестибюль, приводивший меня к первой ступеньке лестницы, по которой было так мучительно подниматься; лестница служила единственной, очень узкой, боковой гранью этой усеченной неправильной пирамиды, а наверху располагались моя спальня и маленький коридорчик с застекленной дверью, через которую входит мама; это была декорация, видимая всегда в один и тот же час, отделенная от всего, что вокруг, одна выступающая из темноты, строго необходимая (как та, которую указывают в начале старых пьес для представлений в провинции) в драме моего раздевания; словно Комбре существовал только в виде двух этажей, соединенных тоненькой лестницей, и там всегда было семь часов вечера. По правде сказать, если бы меня спросили, я бы ответил, что это еще не весь Комбре и время дня там бывало и другое. Но мое воспоминание обо всем этом вернулось бы только сознательным усилием памяти, умственной памяти, а в тех сведениях о прошлом, какие возможно добыть благодаря такому усилию, ничего не оставалось от самого этого прошлого, так что мне бы и не захотелось никогда мечтать о том Комбре. На самом деле все это для меня умерло.
Навсегда умерло? Возможно.
Во всем этом много случайного, и вторая случайность, случайность нашей смерти, часто настигает нас прежде, чем мы успеем насладиться благами первой.
Мне кажется весьма разумным кельтское поверье, будто души тех, кого мы потеряли, пребывают в плену, заключенные в некоем низшем существе, в животном, растении, неодушевленном предмете, и на самом деле они для нас утрачены вплоть до того дня, который для многих так никогда и не наступает, дня, когда мы вдруг пройдем мимо того дерева, вступим в обладание тем предметом, в котором они томятся. Тогда они вздрогнут, позовут нас, и, как только мы их узнаем, чары рассеются. Освобожденные нами, они победили смерть, и возвращаются к нам, и живут дальше.
То же самое с нашим прошлым. Пытаться его вернуть – напрасный труд, все усилия нашего разума бесполезны. Оно прячется не в его владениях и вне его досягаемости, а в какой-нибудь вещи (и ощущении, которое вызовет у нас эта вещь), о которой мы меньше всего думаем. И только случай распоряжается тем, встретится ли нам эта вещь или так и не встретится до самой смерти.
Уже много лет прошло с тех пор, как все, что было в Комбре, перестало для меня существовать, кроме драмы отхода ко сну и ее подмостков, как вдруг однажды зимним днем я вернулся домой и мама, видя, что я замерз, предложила мне, против обыкновения, попить чаю. Сперва я отказался, а потом, не знаю почему, передумал. Она послала за теми коротенькими и пухлыми печеньицами, их еще называют «мадленками», которые словно выпечены в волнистой створке морского гребешка. И, удрученный хмурым утром и мыслью о том, что завтра предстоит еще один унылый день, я машинально поднес к губам ложечку чаю, в котором размочил кусок мадленки. Но в тот самый миг, когда глоток чаю вперемешку с крошками печенья достиг моего нёба, я вздрогнул и почувствовал, что со мной творится что-то необычное. На меня снизошло восхитительное наслаждение, само по себе совершенно беспричинное. Тут же превратности жизни сделались мне безразличны, ее горести безобидны, ее быстротечность иллюзорна – так бывает от любви, – и в меня хлынула драгоценная субстанция; или, вернее сказать, она не вошла в меня, а стала мною. Я уже не чувствовал себя ничтожным, ограниченным, смертным. Откуда взялась во мне эта безмерная радость? Я чувствовал, что она связана со вкусом чая и печенья, но бесконечно шире, и что природа ее, должно быть, иная. Откуда она? Что означает? Как ее задержать? Я отпиваю второй глоток, и он не приносит мне ничего нового по сравнению с первым, отпиваю третий, и он дает чуть меньше, чем второй. Пора остановиться, похоже, что сила напитка убывает. Ясно, что истина, которую я ищу, не в нем, а во мне. Он ее разбудил, но ничего в ней не понимает и только может повторять до бесконечности, все с меньшей уверенностью, одно и то же свое свидетельство, которое я не умею истолковать, а мне бы выманить это свидетельство еще хотя бы раз, в первозданном виде, заполучить его в свое распоряжение, чтобы окончательно разобраться. Отставляю чашку и обращаюсь к разуму. Искать истину надлежит ему. Но как? Тяжкая неуверенность: разум то и дело сознает, что выходит за пределы себя, сознает, что он, разведчик, сам и есть та неведомая страна, которую ему надлежит разведывать и в которой все его снаряжение ни на что не годится. Разведывать? Нет, еще и творить. Он столкнулся с чем-то, чего еще нет и что только он один может создать, а потом осветить собственным светом.
И вновь я начинаю гадать, что это за незнакомое состояние, которое никак не поддается логическому истолкованию, хотя явно сопряжено с таким блаженством и настолько реально, что все остальное меркнет рядом с ним. Я хочу попытаться его вернуть. Мысленно отступаю назад, в тот миг, когда выпил первую ложечку чаю. Возвращаюсь в то же самое состояние, но ничего нового не проясняется. Прошу разум совершить еще одно усилие, еще раз вернуть мне ускользающее ощущение. И чтобы ничто его не отвлекло, устраняю все препятствия, все посторонние мысли, защищаю свои уши и внимание от всех звуков из соседней комнаты. Но чувствую, как мой разум устает, ничего не достигая, и тогда я принуждаю его, наоборот, отвлечься – хотя раньше его от этого удерживал, – подумать о другом, встряхнуться перед решительной попыткой. Потом во второй раз создаю вокруг него пустоту, вновь предлагаю ему совсем еще недавний вкус первого глотка и чувствую, как что-то во мне вздрагивает и сдвигается с места, стремится всплыть на поверхность, словно где-то там, на большой глубине, высвободили якорь; не знаю, что это, но оно медленно поднимается; я чувствую сопротивление и слышу гул преодолеваемого пространства.
Конечно, то, что там бьется внутри меня, – скорее всего, образ, зрительное воспоминание, которое связано с этим вкусом и пытается пробиться ко мне вслед за ним. Но борьба идет слишком далеко, ничего не разобрать; я насилу могу разглядеть бледное отраженье, в котором расплывается неуловимый водоворот колышущихся красок; но я не различаю форм, не могу попросить у этого образа, словно у единственно возможного переводчика, чтобы он растолковал мне свидетельство своего современника, своего неразлучного спутника, вкуса, не могу попросить у него, чтобы он сказал, о каком именно обстоятельстве, о какой минувшей эпохе идет речь.
Явившись из невообразимой дали, сила притяженья, скрытая в другом, похожем событии, требует, будоражит, поднимает со дна моей души это воспоминание, изначальное событие, но пробьется ли оно на свет, на поверхность моего сознанья? Не знаю. Теперь я уже ничего не чувствую, оно замерло, а может, опять опустилось на дно; кто знает, всплывет ли оно еще когда-нибудь из темноты? Мне пришлось раз десять начинать сначала, наклоняться над ним. И всякий раз трусость, которая подбивает нас увильнуть от любой сложной задачи, от любого важного труда, советовала мне оставить эту затею, пить себе свой чай и думать просто о сегодняшних неприятностях, о завтрашних заботах, словом, не утруждая себя, пустить мысли блуждать по кругу.
И вдруг воспоминание воскресло. Такой вкус был у кусочка мадленки, которым по воскресным утрам в Комбре (потому что в этот день до обедни я сидел дома) угощала меня тетя Леони, когда я приходил к ней в спальню поздороваться, причем сначала она макала его в свой чай или липовый отвар. При виде мадленки я ничего не вспомнил, пока ее не попробовал; и впрямь, я же не ел мадленок с тех самых пор, хотя часто видел их на полках в кондитерских, и потому их образ отделился у меня от дней, проведенных в Комбре, и связался с другими, более недавними; и впрямь, из тех давних воспоминаний, давно заброшенных и выпавших из памяти, ничего не уцелело, все рассыпалось; и наверно, потому все вообще формы – в том числе и форма маленькой сдобной ракушки, такой чувственно-пухлой в своих строгих и благочестивых оборках, – или совсем распались, или, впав в дремоту, уже не в силах были ожить и проникнуть в сознание. Но когда после смерти людей, после разрушения вещей ничего не остается из минувшего, – тогда одни только запах и вкус, более хрупкие, но и более живучие, менее вещественные, более стойкие, более верные, еще долго, как души, живут в развалинах всего остального и напоминают о себе, ждут, надеются и неутомимо несут в своих почти неощутимых капельках огромную конструкцию воспоминанья.
И как только я узнал вкус пропитанного липовым чаем кусочка печенья, которым угощала меня тетя (хоть и не понял тогда и только намного позже сумел разобраться, почему это воспоминание наполняло меня таким счастьем), сразу же выходивший на улицу старый серый дом, где была ее спальня, театральной декорацией пристроился к флигельку, возведенному для родителей во дворе (это и было то самое выхваченное из темноты пятно – единственное, что я до сих пор помнил); а вместе с домом и город, во всякое время с утра и до вечера и в любую погоду, и Площадь, куда меня выпускали до завтрака, улицы, по которым я шагал с поручениями, дороги, по которым ходили гулять, когда было тепло. И как в той игре, которой забавляют себя японцы, окуная в фарфоровый сосуд с водой комочки бумаги, поначалу бесформенные, которые, едва намокнув, расправляются, обретают очертания, окрашиваются, становятся разными, превращаются в цветы, в домики, в объемных узнаваемых человечков, – так теперь все цветы из нашего сада и из парка г-на Сванна, и белые кувшинки на Вивонне[58], и добрые люди в деревне, и их скромные жилища, и церковь, и весь Комбре с его окрестностями – все это обрело форму и плотность, и все – город и сады – вышло из моей чашки с чаем.
II
Комбре издали, за десять лье, возникал в окне поезда, когда мы подъезжали к нему на последней неделе перед Пасхой, и поначалу весь целиком сводился к церкви, которая его представляла, вещала о нем и от его имени далям, а когда подъедешь поближе, делалось видно, как к подолу ее уходящей ввысь темной накидки, в чистом поле, сгрудившись на ветру, будто овцы вокруг пастушки, жмутся ворсистые серые спины домов, тут и там окруженные остатками идеально круглой средневековой крепостной стены, точь-в-точь городок со старинной картинки. Сам Комбре выглядел не слишком жизнерадостно, потому что его улицы, застроенные домами из темно-серого местного камня, – причем к каждому дому вели каменные ступени, и каждый был увенчан островерхой крышей, бросавшей густую тень на пространство перед фасадом, – эти улицы были темноваты, и, едва день начинал клониться к вечеру, в «залах» приходилось поднимать шторы; и те из них, что носили строгие имена святых (связанных подчас с историей первых сеньоров Комбре), – улица Св. Илария, улица Св. Иакова, где стоял дом моей тетки, улица Св. Хильдегарды, вдоль которой тянулась решетка сада, и улица Святого Духа, на которую выходила садовая калитка, – эти улочки Комбре существовали в таком дальнем уголке моей памяти, окрашенном для меня настолько по-другому, чем теперешний мир, что на самом деле и все они, и церковь, возвышавшаяся над ними на Площади, представляются мне еще менее настоящими, чем картинки волшебного фонаря; и в иные минуты мне кажется, что вновь перейти улицу Св. Илария, снять комнату на Птичьей улице, в старой гостинице «Пронзенная птица», из подвальных окон которой тек запах стряпни, до сих пор иногда пульсирующий во мне теплыми толчками, – это было бы все равно что вступить в контакт с потусторонним миром, куда более сверхъестественный, чем, к примеру, если бы вам удалось познакомиться с Голо и поболтать с Женевьевой Брабантской.
Кузина деда, моя двоюродная бабка, владелица дома, где мы гостили, приходилась матерью той самой тете Леони, которая после смерти мужа, дяди Октава, не пожелала покидать сначала Комбре, потом в Комбре – свой дом, потом комнату, потом постель и больше не «сходила вниз», вечно прячась в зыбкой стихии горя, телесной немощи, хвори, навязчивых идей и набожности. Ее комнаты были обращены на улицу Св. Иакова, которая где-то там, дальше, упиралась в Большой луг (ничего общего с Малым лугом, зеленевшим в центре города, там, где сходились вместе три улочки): однообразная, серая эта улица, где почти к каждой двери вели три высокие ступени, сложенные из песчаника, казалась ущельем, которое прорубил ваятель готических статуй прямо в камне, чтобы вырезать ясли или распятие. В сущности, тетя жила уже только в двух смежных комнатах, после обеда переходя из одной в другую, пока соседнюю проветривали. Такие провинциальные комнаты сродни тем краям, где целые массы воздуха или морской воды светятся или благоухают мириадами невидимых нам простейших: они околдовывают нас множеством запахов, излучаемых добродетелью, благоразумием, привычками, всей этой потаенной, невидимой жизнью, насыщенной и нравоучительной, и все это словно нагнетается в атмосфере; эти запахи еще, конечно, природные и погодные, подобно запахам ближних полей, но уже одомашненные, очеловеченные и настоянные внутри жилья, изысканное прозрачное желе, произведение искусства, созданное из всех плодов, поспевших за год и перебравшихся из сада в буфет; каждый из своего времени года, но всегда сподручные и домашние, умеряющие кислинку чистого желе мягкостью теплого хлеба, запахи досужие и дотошные, как деревенские башенные часы, запахи праздношатающиеся и степенные, беспечные и осмотрительные, бельевые, утренние, набожные, упоенные блаженным покоем, от которого на душе становится только тревожнее, и в то же время прозаичностью, которая служит великим источником поэзии для того, кто окунается в эту жизнь, но не живет ею. Воздух там был насыщен настоем такой питательной, такой лакомой тишины, что я всегда входил в нее словно облизываясь, особенно в те первые еще холодные утра пасхальной недели, когда я наслаждался этим воздухом острее, потому что приехал в Комбре совсем недавно: перед тем как войти поздороваться с тетей, приходилось немного подождать в первой комнате, куда солнце, еще зимнее, заглядывало погреться у огня, уже разведенного между двух кирпичей и заливавшего всю комнату вязким запахом сажи, намекавшим не то на переднюю стенку огромной деревенской печи, не то на колпак над камином в замке, рядом с которыми хочется, чтобы снаружи был дождь, снег, даже какое-нибудь бедствие вроде потопа, чтобы к уюту затворничества добавлялась поэзия ненастья; я проходил несколько шагов от молитвенной скамеечки до кресел, обтянутых переливчатым бархатом, с неизменно наброшенным на них кружевным подголовником; и огонь пропекал аппетитные запахи, комочками теснившиеся в комнатном воздухе: сырая, солнечная утренняя прохлада уже замесила это тесто, оно уже взошло, и вот теперь огонь его прослаивал, подрумянивал, морщил, вздувал, превращая в невидимое и осязаемое провинциальное пирожное, огромное пирожное-слойку; и, едва отведав более пряных, более тонких, всем известных, но и более черствых ароматов чулана, комода, узорных обоев, я всегда с тайным вожделением опять и опять увязал в усредненном, липком, душном, неудобоваримом и фруктовом запахе цветастого покрывала.
Я слышал, как тетя в соседней комнате вполголоса говорит сама с собой. Она всегда разговаривала довольно тихо, полагая, что в голове у нее что-то надорвалось, и едва держится, и от громкого разговора может сдвинуться с места, но даже наедине с собой она то и дело что-нибудь произносила, веря, что это полезно для горла, чтобы кровь не застаивалась, поскольку от застоя крови у нее учащались удушье и приступы страха; кроме того, совершенно ничем не занятая, она придавала малейшим своим ощущениям огромную важность; ей казалось, что они все время меняются, и ей трудно было хранить эти перемены про себя, так что за неимением наперсника, с которым можно было бы поделиться, она сообщала о них самой себе в вечном монологе, который был ее единственным занятием. К сожалению, привыкнув думать вслух, она не всегда заботилась, есть ли кто-нибудь в соседней комнате, и я часто слышал, как она говорила себе: «Не забыть бы, что я не спала» (важнейшим ее притязанием было то, что она никогда не спит, и все мы уважали и постоянно учитывали это в разговорах: утром Франсуаза не «будила» ее, а «приходила» к ней; когда тете хотелось вздремнуть днем, говорили, что ей хочется «подумать» или «отдохнуть»; а когда ей случалось посреди болтовни уж вовсе забыться и у нее вырывалось: «это меня разбудило» или «мне приснилось», – она краснела и поскорее исправляла оплошность.
Мгновение спустя я входил поцеловать ее; Франсуаза тем временем заваривала чай; а если тетя чувствовала беспокойство, она просила, чтобы ей заварили травяной отвар, и мне поручалось отмерить из аптекарского пакетика на тарелочку липовый цвет, который потом надо было бросить в кипящую воду. Высохшие стебельки закручивались в причудливую сетку, в завитушках которой проглядывали бледные цветки, словно какой-нибудь художник постарался расположить их поживописнее. Листики, уже сами на себя непохожие, напоминали все что угодно: то прозрачное мушиное крылышко, то белую оборотную сторону ярлычка, то розовый лепесток; одни успели раскрошиться, другие тесно переплелись между собой, – они громоздились горкой и были похожи на материал, из которого сейчас будут вить гнездо. Множество мелких ненужных подробностей, которые были бы уничтожены промышленным изготовлением – чарующая расточительность аптекаря – радовали меня, словно книга, в которой с восторгом обнаруживаешь имя знакомого, и понятно было, что это вправду стебельки настоящих лип, точно таких, как на Вокзальной улице, неузнаваемые именно потому, что это не копии, а они сами, и потому, что состарились. И все новые черты оказывались лишь метаморфозами прежних: в маленьких серых шариках я узнавал зеленые недозревшие бутоны; но главное – розовый блеск, призрачный, нежный, помогавший углядеть цветы в хрупком лесу стебельков, на которых они были подвешены подобно маленьким золотым розам – вроде свечения, еще заметного на каменной кладке на месте стершейся фрески, по которому еще можно отличить те части нарисованного дерева, которые были «цветными», от монохромных, – розовый блеск показывал мне, что именно эти лепестки до того, как расцветить аптекарский пакетик, наполняли благоуханием весенние вечера. Они еще хранили свой цвет, розовый, как пламя церковной свечи, но уже наполовину угасший и чуть теплящийся в этой их нынешней приглушенной жизни, в этих цветочных сумерках. Еще немного, и вот уже тетя макала мадленку в свой любимый обжигающе горячий настой, хранивший вкус мертвых листьев и увядших цветов, и, как только печенье размокнет, протягивала кусочек мне.
Рядом с ее кроватью стоял большой желтый комод лимонного дерева и столик, служивший чем-то вроде аптеки и вместе с тем алтаря, где под статуэтку Богоматери и бутылку воды «Виши-Селестен» были подложены молитвенники и рецепты, все, что нужно, чтобы, лежа в постели, аккуратно исполнять религиозные и врачебные предписания, не забывать, когда вечерня, когда принять пепсин. По другую сторону кровати тянулось окно, перед тетиными глазами раскрывалась улица, и она тешила себя тем, что, наподобие персидских царей[59], читала по ней с утра до вечера повседневную, но уходящую корнями в глубокую древность хронику Комбре, которую потом обсуждала с Франсуазой.
И пяти минут не проходило, как тетя отсылала меня, опасаясь, как бы я ее не утомил. Она подставляла моим губам свой печальный лоб, бледный и увядший, на который в этот ранний утренний час она еще не успевала начесать накладные волосы, и проволочные ребра каркаса просвечивали, как острия тернового венца или бусинки четок, – и говорила мне: «Ладно, детка, ступай собирайся к обедне; а если внизу увидишь Франсуазу, скажи ей, хватит, мол, там с вами прохлаждаться, пускай идет скорее наверх, поглядит, не нужно ли мне чего».
В самом деле, Франсуаза, которая годами была у нее в услужении и тогда еще не догадывалась, что однажды перейдет к нам, несколько пренебрегала тетей в те месяцы, когда мы гостили. В моем детстве было время, когда мы еще не ездили в Комбре, а тетя Леони проводила зимы в Париже у своей матери; тогда я совсем плохо знал Франсуазу, поэтому первого января, собираясь со мной в комнату к двоюродной бабушке, мама вкладывала мне в руку пятифранковик и говорила: «Главное, не перепутай. Не давай монетку, пока я не скажу: „Здравствуйте, Франсуаза!“ – и не трону тебя за плечо». Едва мы вступали в темную тетину прихожую, как в полумраке, под гофрированными складками ослепительного, жесткого и хрупкого, словно из сахарной канители, чепца, замечали разбегающиеся лучики улыбки, предвосхищавшей благодарность. Это и была Франсуаза – она неподвижно стояла в раме дверки, ведущей в коридор, словно статуя святой в нише. Когда глаза мои немного привыкали к этому церковному сумраку, я читал на ее лице бескорыстную любовь к человечеству и умиленное почтение к высшим классам, которые возбуждала в благороднейших уголках ее сердца надежда на новогодний подарок. Мама яростно щипала меня за плечо и громко говорила: «Здравствуйте, Франсуаза!» По этому сигналу пальцы мои разжимались и я выпускал монету, которую принимала ее нерешительная, но все же протянутая рука. Но с тех пор как мы стали ездить в Комбре, Франсуазу я узнал лучше, чем всех остальных, мы были ее любимчики, она питала к нам, по крайней мере в первые годы, такое же уважение, как к тете, но любила нас крепче: мало того что мы имели честь принадлежать к семье (а к незримым узам, через которые одна и та же кровь протекает по жилам всех членов семьи, она питала не меньшее почтение, чем автор древнегреческих трагедий), но нам прибавляло очарования и то, что мы для нее не были привычными хозяевами. И до чего радостно встречала она нас, когда мы приезжали накануне Пасхи, как сокрушалась, что погода испортилась, – потому что в этот день часто дул ледяной ветер, – пока мама расспрашивала ее о ее дочке и двух племянниках, и слушается ли внук, и чему его будут учить, и похож ли он на свою бабушку.
А когда они оставались одни, мама, знавшая, что Франсуаза до сих пор оплакивает своих родителей, умерших много лет назад, ласково о них заговаривала, в мельчайших подробностях расспрашивала об их жизни.
Она догадалась, что Франсуаза не любит зятя и что он отравляет ей радость встреч с дочерью, с которой при нем она не обо всем может поговорить. И вот, когда Франсуаза отправлялась к ним в гости за несколько лье от Комбре, мама с улыбкой говорила: «Не правда ли, Франсуаза, если Жюльену придется уехать по делам и вы на целый день останетесь вдвоем с Маргаритой, вы как-нибудь примиритесь с этой неприятностью?» А Франсуаза со смехом отвечала: «Мадам у нас все знает, мадам у нас вострее рентгена, – («рентген» она выговаривала с видимым усилием и посмеиваясь над собой, что вот, мол, она, неученая, произносит такое умное слово), – который привозили к госпоже Октав, а тот рентген видит ваше сердце насквозь[60]» – и тут же исчезала, стесняясь того, что ею занимаются, и, может быть, не желая, чтобы видели, как она плачет; мама первая дала ей это сладостное чувство – сознавать, что ее жизнь, ее простецкие радости и горести могут интересовать другого человека, радовать или печалить кого-то, кроме нее. Тетя смирилась с тем, что Франсуаза уже не принадлежит ей всецело во время наших наездов: она знала, как мама ценит помощь этой умной и расторопной служанки, которая и в пять утра на кухне, в чепце с ослепительными и тугими, будто фарфоровыми, складками, была так пригожа, словно собралась к воскресной обедне, которая все делала хорошо, больная ли, здоровая ли – работала как лошадь, но бесшумно, с таким видом, словно ничего особенного не делает, – единственная из тетиных служанок, которая, если мама просила горячей воды или кофе, приносила их по-настоящему горячими; она была из тех слуг, что с первого взгляда меньше всех в доме нравятся постороннему, может быть, потому, что не дают себе труда его очаровать и не проявляют услужливости, прекрасно понимая, что гость им совершенно не нужен, что хозяева скорее перестанут его приглашать, чем откажутся от них; но зато именно этими слугами больше всего дорожат хозяева, зная, на что они на самом деле способны, и не заботясь о легкомысленных прикрасах, об угодливой болтовне, какая производит благоприятное впечатление на гостя, но часто прикрывает неисправимую никчемность. Когда Франсуаза, проследив за тем, чтобы у родителей было все, что им нужно, в первый раз поднималась к тете, давала ей пепсин и спрашивала, что подать на завтрак, сплошь и рядом ей сразу приходилось высказывать свое мнение или давать объяснения насчет какого-нибудь важного события.












