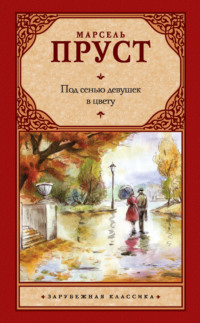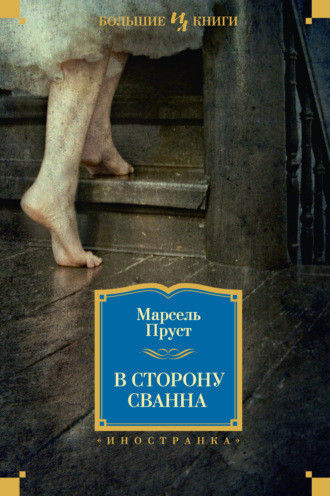
Полная версия
В сторону Сванна
3
…соперничество Франциска I с Карлом V. – По мнению французских комментаторов, герой читает книгу Франсуа Минье (François Mignet) «Соперничество Франциска I и Карла V» (1875), в которой идет речь о более чем тридцатилетней борьбе французского короля Франциска I (пр. 1515–1547) с императором Священной Римской империи Карлом V (пр. 1519–1556).
4
…разбуженный приступом больной… – Здесь впервые в романе упоминается о болезни. Когда Прусту было девять лет, он заболел астмой, которая преследовала его до конца. «Поиски» – не автобиография, но автор привнес в историю своего героя много черт собственной жизни, в том числе и эту: ссылки на болезнь рассыпаны по всей книге. Болезнью объясняются и перемены в распорядке дня героя, о которых говорится в первой фразе романа: в детстве и молодости он ложится спать рано, как и положено больному, и проводит долгие тягостные часы в борьбе с очередным приступом; позже он будет, так же как и сам Пруст, ложиться спать под утро, а ночью бодрствовать. После 1907 г., когда Пруст приступил к работе над романом, он жил на бульваре Османн в комнате с завешенными окнами, днем спал, а по ночам писал.
5
Чувствуем необходимость сориентировать читателей в просторном мире романа и помочь разобраться с многочисленными родственниками рассказчика. Еще Ахматова возмущалась: «…у Пруста все герои опутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками кухарки» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Запись от 26 апреля 1955 г.). Иные персонажи наделены именами, иные остаются безымянными, указана только степень их родства с рассказчиком. Итак, кратко охарактеризуем семью героя романа, рассказчика, или, пользуясь выражением самого Пруста, того господина, который в романе говорит «я»: у него есть мама и папа, а еще есть дедушка, г-н Амеде (это его имя, а не фамилия), и сестра дедушки, которую рассказчик называет двоюродной бабушкой: именно этой двоюродной бабушке принадлежит дом в Комбре. Ее дочь – тетя Леони, которая живет в Комбре постоянно и приходится рассказчику двоюродной теткой, однако он называет ее тетей. Покойного мужа тети Леони звали дядя Октав (Октав – имя, а не фамилия), и служанка называет ее «госпожа Октав», по имени мужа. Кроме дедушки и двоюродной бабушки, у мальчика есть родная бабушка, жена г-на Амеде и мать его мамы, мы знаем ее имя, Батильда, и знаем, что у бабушки есть две незамужние сестры, Селина и Флора. Бабушкины сестры, строго говоря, тоже приходятся рассказчику двоюродными бабушками, но он их так никогда не называет, видимо, во избежание окончательной путаницы. Они в романе называются бабушкиными сестрами, а иногда просто тетками. Еще упоминается дядя Адольф, брат дедушки, – он, значит, приходится рассказчику двоюродным дедушкой, однако называется именно дядей. Правда, на первой странице дважды упоминается двоюродный дедушка, не названный по имени; не беремся судить со всей уверенностью, имеется ли в виду дядя Адольф или какой-нибудь другой родственник. Нам кажется, что это все тот же дядя Адольф.
6
Кинетоскоп – характерный элемент культуры рубежа веков, был изобретен в 1889 г. Т. Эдисоном и У. Диксоном; это предшественник кинематографа: последовательный быстрый просмотр фотографий, сделанных через очень короткие промежутки времени, создавал иллюзию движения.
7
«Деба роз» («Le Journal des Debats») – ежедневная газета (1789–1944). «Les Debats Roses» – вечернее приложение к этой газете, печатавшееся на розовой бумаге; начало выходить в 1893 г.
8
…в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции… – Это перечисление главных мест, где развернется действие романа, не совсем соответствует предшествующему перечислению спален. Ни парижская спальня, ни венецианская не совпадают с комнатами, запечатленными в «вихреобразном и смутном узнавании», и наоборот, Тансонвиль в перечисление не попал. Кроме спальни в Комбре, можно узнать приветливую спальню в Донсьере (см. «Сторону Германта») и тоскливую – в Бальбеке («Под сенью девушек в цвету»), почти все описательные элементы которой (часы, лиловые шторы, зеркало, высокий потолок, запах лимонной травы) здесь присутствуют. Перечисление мест происходит по порядку их появления в романе и в жизни рассказчика, за исключением Парижа, занимающего центральное место.
9
Шале – изначально – деревянный домик на альпийских лугах; позже так стали называть любой загородный дом в стиле швейцарских шале, а также маленький деревянный домик на морском побережье на севере Франции, выходящий прямо на пляж; именно о таком шале вспоминает герой романа.
10
Женевьева Брабантская – героиня популярной средневековой легенды, впервые записанной Джакопо да Варацце (Иаковом из Ворагина) в сборнике «Золотая легенда», составленном в XIII в.: отправляясь на войну, Зигфрид, граф Тревский, доверил свою жену Женевьеву, дочь герцога Брабантского, попечению сенешаля Голо, который пытался ее обольстить. Потерпев неудачу, Голо оклеветал Женевьеву перед мужем, и тот велел ее казнить. Люди, которым было поручено исполнение приговора, пожалели ее и оставили в лесу, где она прожила несколько лет, питаясь плодами и кореньями. Ее младенца вскормила своим молоком прирученная ею лань. Однажды на охоте Зигфрид погнался за этой ланью, и она привела его к жене. Женевьева доказала свою невинность и изобличила Голо, но вскоре умерла.
Этот сюжет много раз служил во Франции основой для художественных произведений: существуют трагедия Серизье «Женевьева Брабантская, или Признанная невинность» (1669), пьеса Дора того же названия (1670); Эрик Сати написал комическую оперу «Женевьева Брабантская» (1900) на либретто Лорда Шемино (псевдоним Контема Латура); популярна была оперетта «Женевьева Брабантская» Жака Оффенбаха на либретто Кремье, впервые поставленная в 1859 г., а в 1875 г. переделанная в пятиактную оперу и поставленная в парижском театре «Гете».
11
…из меровингских времен… – Время правления франкской королевской династии Меровингов относится к V–VIII вв. Их история живо интересовала Пруста: в юности его любимым чтением были «Рассказы из времен Меровингов» Огюстена Тьерри (1795–1856) (рус. пер. – СПб.: Изд-во «Иванов и Лещинский», 1994).
12
Астральное тело – в оккультных науках так называется двойник физического тела, обладающий более тонкой организацией и возможностью существования в ином измерении.
13
…и Синей Бороде… – Имеется в виду сказка Шарля Перро (1628–1703).
14
Имя Батильда, которое носит бабушка рассказчика, очень редкое и значит «крещенная водой» (из греч. яз.) – как видно, не зря бабушка любит гулять под дождем. Это имя святой, прославившейся добрыми делами, которая жила в VII в. и была женой Хлодвига II, что опять отсылает нас к меровингской старине.
15
…волос, причесанных под Брессана… – Речь идет о прическе ежиком, введенной в моду актером «Комеди Франсез» Жаном Брессаном (1815–1886). Такую прическу носил Шарль Хаас, который был, по признанию самого Пруста, основным прототипом Сванна.
16
Жокей-клуб – один из наиболее закрытых и элегантных парижских клубов, основан в 1834 г.
17
Граф Парижский – Луи Филипп Альберт Орлеанский (1838–1894), внук короля Луи Филиппа; дважды был выслан из Франции как претендент на престол.
18
Принц Уэльский – титул английского престолонаследника; имеется в виду будущий Эдуард VII (1841–1910), сын королевы Виктории, вступивший на престол после ее смерти – в 1901 г. По свидетельствам современников, во время своего пребывания в Париже он был центром притяжения для высшего света. Однажды он был на званом обеде в доме баронессы Греффюль, которую Пруст хорошо знал (в «Стороне Германта» Пруст отразит это событие в сцене приема у герцогини Германтской).
19
Сен-Жерменское предместье – квартал в Париже (7-й округ), где с XVIII в. селились наиболее аристократические семейства.
20
Орлеанская набережная на острове Сен-Луи, в самом центре Парижа, в XIX в. не считалась подобающим местом для жилья в среде богатой буржуазии, предпочитавшей район авеню Оперы и бульвар Осман.
21
Аристей – персонаж поэмы Вергилия «Георгики» (кн. 4, ст. 317–558), научивший людей пчеловодству. Несмотря на божественное происхождение, Аристей был простым пастухом; однако, когда он обратился за помощью к матери – Кирене, правнучке Океана, нимфе потока Пеней, – она приняла его, ввела в царство морской богини Фетиды, научила, как узнать о причине постигшей его беды и спасти погибших пчел.
22
Первая из многочисленных ссылок на сказки «Тысячи и одной ночи», рассыпанных по роману. Эти сказки в новом переводе Мардрюса публиковались во Франции с 1899 по 1904 г., и Пруст много раз обращается к ним как в своих письмах, так и в романе, где он и упоминает сами сказки, и обсуждает их новый перевод.
23
…у принцессы полусвета!.. – Это словечко ввел в обиход Александр Дюма-сын, написавший в 1855 г. пьесу «Полусвет».
24
…рецепт соуса «грибиш»… – соус из уксуса и растительного масла с яйцом и травами.
25
В Твикнхэме (Англия) жил во время первого изгнания граф Парижский. Там был центр французской монархической оппозиции.
26
Под Сакре-Кёр здесь подразумевается школа для девочек в Париже, где учились дочери аристократов и преуспевающих буржуа.
27
…из знаменитого семейства герцогов Бульонских… – Буйон, или, по традиционной транскрипции, Бульон, – французский герцогский род, считающий родоначальником Готфрида Бульонского, знаменитого крестоносца и первого короля Иерусалима (1099); ветвь семьи де Латур д’Овернь. Матери Базена, герцога Германтского, и Орианы, герцогини Германтской (которые появятся в романе немного погодя), а также г-жа де Вильпаризи – родные сестры и урожденные герцогини Бульонские.
28
Севинье – Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (1626–1696), автор знаменитых «Писем», адресованных ее дочери графине де Гриньян, часто упоминаемых у Пруста, – любимый автор матери Марселя Пруста, а в романе – бабушки и матери рассказчика.
29
…с маршалом Мак-Магоном! – Патрис, граф де Мак-Магон, герцог де Мажанта, маршал Франции (1808–1893); первый президент Третьей республики (1873–1879). Помимо прямого упоминания в романе, он послужил Прусту прототипом для второстепенного персонажа, родственника г-жи де Вильпаризи.
30
Царствование Луи Филиппа (1773–1850) охватывает период с 1830 по 1848 г.; во времена, описываемые в романе, оно было недавним прошлым. Герцог де Икс – это, по мнению французских комментаторов, герцог д’Одифре-Пакье (1823–1905), сын графа д’Одифре (1789–1858) и внучатый племянник канцлера Этьена-Дени Пакье (1767–1862), упоминаемого в том же разговоре. Другой упоминаемый политический деятель – не отец, а дядя герцога д’Одифре-Пакье: это маркиз д’Одифре (1787–1878), пэр Франции и сенатор в царствование Луи Филиппа.
31
Луи-Матье, граф Моле (1781–1855) – премьер-министр в царствование Луи Филиппа, с 1836 по 1839 г. член палаты пэров, был избран во Французскую академию за книгу «Эссе о морали и политике». О нем в дальнейшем будет упоминать маркиза де Вильпаризи в книге «Под сенью девушек в цвету».
32
Герцог Ашиль Леон Шарль Виктор де Брольи (1785–1870) был министром иностранных дел (1832) и премьер-министром (1835–1836) при Луи Филиппе.
33
«Фигаро» – газета, основанная в 1854 г.; выходит по сей день. Пользовалась огромным влиянием во времена Третьей республики. В ней печатались светские новости, а также колонка, посвященная литературе и искусству, для которой писал и Пруст.
34
Камиль Коро (1796–1875) – французский художник, предтеча импрессионизма. Его картину «Шартрский собор» Пруст называл в числе самых любимых.
35
…отвечала ее сестра Флора. – По недосмотру Пруста обе реплики оказываются приписаны одному и тому же лицу.
36
Анри-Полидор Мобан (1821–1902) – актер «Комеди Франсез», выступавший в амплуа благородных отцов, королей, тиранов. Ушел со сцены в 1888 г.
37
Амалия Матерна (1847–1918) – австрийская певица, исполнительница заглавных ролей в операх Вагнера; выступала в Вене, Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Ушла со сцены в 1897 г.
38
Луи де Рувруа, герцог де Сен-Симон (1675–1755) – придворный Людовика XIV и регента Филиппа Орлеанского, автор «Мемуаров», охватывающих период с 1691 по 1723 г. Пруст часто обращается к Сен-Симону, высоко ценит его язык и стиль, искусство словесного портрета, изображение придворной жизни и умение показать ее механизмы.
39
…был послом в Испании… – В 1721 г. Сен-Симон был послан в Мадрид в качестве чрезвычайного посла, чтобы официально испросить руки испанской инфанты для Людовика XV.
40
…королева Греции… – Ольга Константиновна (1851–1926), племянница Николая I, вышла замуж за Георгия I, короля Греции, и была королевой с 1867 по 1913 г.
41
Принцесса Леонская – титул принцев Леонских принадлежал отпрыскам знатного французского рода Роганов. С принцессой Леонской (1853–1926) был знаком поэт и аристократ Робер де Монтескью, с которым Пруста связывали дружеские отношения; она была поэтессой, учредила литературную премию; Пруст интересовался ею и даже просил Монтескью показать ему фотографию этой дамы.
42
Жан-Батист-Луи Андро, маркиз де Молеврие-Ланжерон (1677–1754) – маршал Франции, посол в Мадриде в 1721–1723 гг., когда, по случаю бракосочетания инфанты с юным королем Франции, Людовиком XV, туда ездил сам Сен-Симон в качестве сверхштатного посланника.
43
«Вы к добродетели мне ненависть внушили!» – Неточная цитата из трагедии Корнеля «Смерть Помпея» (акт III, сцена IV).
44
…убивать грудных младенцев… – Аллюзия на библейский текст: «Извне будет губить их меч, а в домах ужас – и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца» (Второзаконие, 32: 25).