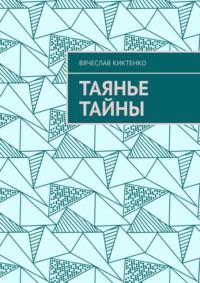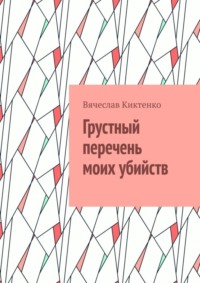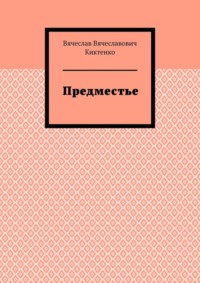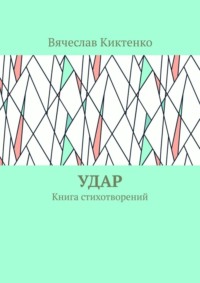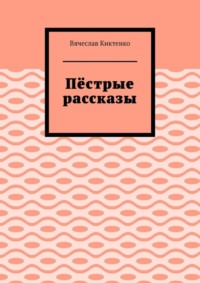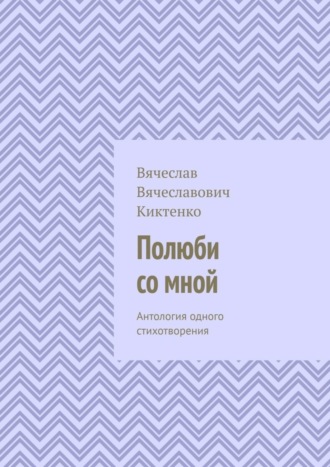
Полная версия
Полюби со мной. Антология одного стихотворения
……………………………………………
…но это вздор, обманное созданье!
Слова – не плоть… Из рифм одежд не ткать!
Слова бессильны дать существованье…»
Даже по этим отрывкам чувствуется – очень непростые были отношения у поэта со словом, с поэзией. Человек недюжинного ума, вполне сознающий, вроде бы, нелепость современного творчества («Ведь умер князь, и стен не существует…»), тем не менее, он
с ранней юности до последних дней писал: писал и прозу, и статьи, и, конечно же, стихи.
Можно сказать – разгадка этого противоречия в том, что недюжинный ум поэта перевешивался ещё более недюжинным талантом. И это, вероятно, будет небезосновательной догадкой. Но не совсем полной. Сам стиль его, так поражавший современников – с нарочитыми перебивами размеров, с несочетаемой, казалось бы, лексикой (частая смесь «низкого» с «высоким», возвышенно-романтического с диковинными прозаизмами, и др.) – таит в себе другую часть разгадки феномена Случевского. Он один из первых почувствовал: писать, как прежде, уже не получится
по-настоящему, что-то предгрозовое носится в самом воздухе эпохи и разрушает, подтачивает – ещё пока незримо, неявно – основы гармонии «Золотого века». И, значит, следует отбросить все иллюзии, не плестись в толпе имитаторов гармонии, а попытаться выразить всю сложность подступающих новых времён – с их ломаными ритмами, астматическим дыханием, неслыханной дотоле в «изящной словесности» лексикой. И не бояться быть осмеянным критикой за пресловутую «смесь французского с нижегородским». Для этого нужно было иметь не только недюжинный талант, но, может быть, в первую очередь, истинно поэтическое, безоглядное мужество. И совершенно незашоренный, честный и ясный взгляд на современный ход вещей. Тем более, что поэт точно знал и чувствовал: поэзия бессмертна, невзирая на все доводы разума. И завершил своё стихотворение-кредо так: той
……………………………………………
«…смерть песне, смерть! Пускай не существует!..
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна всё-таки тоскует
В урочный час на каменной стене…»
Полвека спустя то же самое, в сущности, скажет поэт иных времён, Владимир Маяковский. Скажет грубо, но «весомо и зримо»:
«…поэзия —
пресволочнейшая штуковина,
Существует,
и ни в зуб ногой…»
Стихотворение же, которое мы предлагаем сегодня читателю, стот вообще словно бы особняком в русской поэзии 19-го века. Пожалуй, лишь Фёдор Достоевский (высоко чтимый Случевским) сумел так сильно поднять эту, одну из самых болезненных тем времени, тему публичной казни. Но если у Достоевского – в монологе князя Мышкина, например – описание казни подаётся словно бы нарочито сдержанно, состоит из детального описания процедуры, которую писатель испытал на самом себе, и ужас возникает из самой безоценочности, «заземлённости» этого описания, то у Случевского, всего лишь наблюдавшего со стороны реальную казнь в Европе, вдруг проступает такая и
метафизика в стихах, что и полтора века спустя вызывает изумление: каквообще могло быть почувствовано, увидено, – написано?!. такое
Впрочем, эти потрясающие стихи не нуждаются в каких-либо комментариях. Пусть современный читатель, нечасто натыкающийся на сборники Случевского, сам прочтёт и оценит этот, никак не старящийся во времени, шедевр.
«После казни в Женеве»
Тяжёлый день… Ты уходил так вяло…
Я видел казнь: багровый эшафот
Давил как будто бы сбежавшийся народ,
И солнце ярко на топор сияло.
Казнили. Голова отпрянула, как мяч!
Стёр полотенцем кровь с обеих рук палач,
А красный эшафот поспешно разобрали,
И увезли, и площадь поливали.
Тяжёлый день… Ты уходил так вяло…
Мне снилось: я лежал на страшном колесе,
Меня коробило, меня на части рвало,
И мышцы лопались, ломались кости все…
И я вытягивался в пытке небывалой
И, став звенящею, чувствительной струной, —
К какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдруг попал едва живой!
Старуха страшная меня облюбовала
И нервным пальцем дёргала меня,
«Коль славен наш Господь» тоскливо напевала,
И я вторл ей, жалобно звеня!..» и
Апухтин
Алексей Николаевич Апухтин (1840—1893) известен широкому читателю бо-
лее всего как певец «цветов запоздалых». Его романсы доныне очень популяр-
ны благодаря счастливому сочетанию прекрасных стихов и музыки П. И. Чай-
ковского, друга всей его жизни – с ученической скамьи до самых последних
дней. Стоит вспомнить лишь некоторые, наиболее знаменитые романсы: «День
ли царит“, „Ночи безумные, ночи бессонные“, „Ни отзыва, ни слова, ни при-
вета», «Забыть так скоро» и, конечно же, великую песню «Пара гнедых». Хотя
это и перевод из Донаурова, но, как нередко случается с гениальными пере-
ложениями (Пушкина из Мицкевича, Лермонтова из Гете, Гейне, Зейдлица и
др.) на русской почве стихи эти стали родными – народными. Бесспорно, од-
ного факта неувядаемости песен и романсов Апухтина достало бы для призна-
ния его творчества явлением незаурядным. Но мне думается, что Апухтину
русская поэзия обязана гораздо большим. Этот малоупоминаемый ныне поэт,
вообще не бывший никогда особенно громким и не очень-то к тому стремив-
шийся, по-видимому, почти в полном одиночестве сумел найти и мощно разра-
ботать свою «жилу», свою форму, которая столетие спустя развилась в целый
стихотворный жанр, весьма активно эксплуатируемый поэтами 20 века. Этот
жанр можно обозначить как сжатую стихотворную повесть, главную энергетику
которой составляет напряженный, остро-психологический сюжет. По родовым
признакам это не поэмы, даже и не повести в классическом понимании, но
скорее всего – большие сюжетные стихотворения, к жанру повести, впрочем,
явно тяготеющие. Кажется, им так и не найдено единственно бесспорного пои-
менования, чему во многом способствует сама маргинальность жанра. Тем не
менее, активно используемая русскими советскими поэтами эта форма традици-
онно именуется поэмой. «Маленькая поэма» – настойчиво подчеркивали
авторы, ни один из которых, кажется, так и не решился назвать своего пред-
течу – Алексея Апухтина. То ли немодным считалось в бодрые советские годы
апеллировать к «упадническому» лирику, провинциалу из орловского захо-
лустья, затворнику своей «Обломовки», то ли попросту искренне забыли о его
существовании, но ни А. Тарковский, ни Д. Самойлов, ни А. Кочетков, ни В. Фе-
доров, ни другие наши поэты, частенько обращавшиеся к этому жанру, так и
не сослались, хотя бы с оговоркой, на своего предшественника. Впрочем, дай
Бог мне ошибаться, и я просто не встретил подобных упоминаний.
Мало известна и проза поэта, оставшаяся после смерти в ящиках стола.
«Дневники Павлика Дольского», «Архив графини Д», «Между жизнью и смертью»
– проза эта незаурядная, но к сожалению так и не ставшая широким общест-
венным достоянием. А фантастический рассказ «Между жизнью и смертью» мог
бы, мне кажется, заинтересовать нынешнего читателя, особенно тяготеющего к
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.