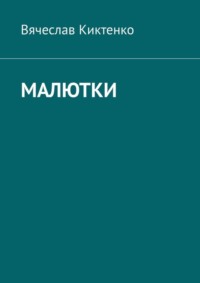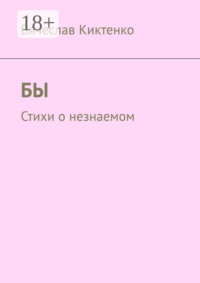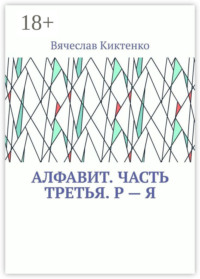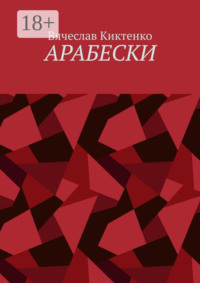Полная версия
Певчий Гад. Роман-идиот. Сага о Великом
Задумался о Серебряном веке, о его вычурностях, выспренностях, сопряжённых не с Солнцем, а с луною. С поэтизацией «волшебницы-луны», которую, впрочем, Пушкин любил называть глупой. Почему? Уже не спросить…
И о Золотом веке задумался Великий. И о циклах – космических в первую очередь, а также и о женских циклах задумался… и связал всё это в опус. Не очень пристойный, однако, но из песни слова не выбросить:
«…в нашей Солнечной системе
Ворожить на лунной теме,
Всё равно, что жить в…
Трубы Солнечные грянут,
Циклы месячные станут
Годовыми. Как везде».
День непопадания в урну
Как везде и всегда, знаменитый день «Непопадания в урну» не остался без метки. То бишь «зарубки» в корявой амбарной тетради. Скорее всего, это произошло ввечеру. А до того ещё, днём, вопросил задумчиво, остановив меня на осенней ветреной улице:
– «Что это за день такой? Какую дрянь ни кинь в урну, то рука дрогнет, то ветром
снесёт …что это за день? Наверное, особенный день. Такие дни должны именоваться как-то по-особому. А как?..»
Пошевелил-почесал колтун памяти, — под ещё мощной, огненно-рыжей копной волос, махнул рукой, и – вырубил на века. Рек:
«А вот так – «День Непопадания в Урну!»
Записал реченное в тетрадь. Что подтвердилось впоследствии.
***
«…да никакая не Эволюция! Обратный путь. – Инволюция. У Неандертальца мозг свыше двух с половиной литров. Чуть позже, у кроманьонцев – два с небольшим. У нынешних хомо-сапиенс полтора, иногда чуть побольше. А зачем ещё? Основная работа проделана пращуром: изобретён топор, нож, лук, орало. Одомашнена лошадь, собака, корова. Изобретено и усовершенствовано главное средство передвижения в течение тысячелетий – Телега!..
А ещё седло, упряжь… миллион «простых», как бы само собою разумеющихся для жизнеобеспечения вещей: дом, печь, огород, пашня…
И на кой они чёрт теперь, большие мозги, когда всё, требующее мощного разума, смётки, – уже изобретено? Долбать по «клаве» много ума не требуется. Можно расслабиться, атрофировать мозги, передовериться роботу, разучиться понимать компьютерные программы, придуманные когда-то людьми, но теперь уже не нужные вовсе. Зачем? Живи на готовенькое…
А нужны ли роботу сами люди? В первую очередь — роботу. Ну скажи, на фига они нужны машинной расе, обогнавшей поглупевших людей, доверившихся программе, впавших в техногенный кайф, обдолбанных цифрой, виртуальной наркотой?..
Инволюция, однако»
***
Из «максимок» Великого:
«…человек, уснувший под телевизор, уже похож на человека…»
***
…да и мамуля не очень любила сыночка. Почему-то не любила… может, зачат не по любви? Тайна. Тревожить не будем. Тем более, Великий сам подавал, очень даже нередко подавал поводы к нелюбви. И сестра не очень любила. И сотоварищи относились с недоумением… и девушки странно, очень странно к нему относились…
***
Из цикла Великого «Белибердень»
«Что ж зазря глазами хлопать,
Пенелопица?
– «Рыбки бы чуток полопать…»
Да не лопается.
И не ловится, и не лопается…
– «Не ходи за лоха замуж,
Пенелопица!..»
***
И решил однажды свести счёты с жизнью. От нелюбви. От странной,
грустной нелюбви к себе. Такому любимому, нелюбимому…
Да, но как свести? Прыгать с башни? – Страшно. Застрелиться? «Ружжа» нет. Таблеток нажраться? Денег нет, да и рецептика нужного…
***
Выбрал время, когда все домашние на работе, включил духовку, сунул башку.
Пахло плохо. Очень плохо, неприятно пахло…
И решил малость передохнуть… отдохнуть чуток. Прилёг рядом с открытой духовкой, в обнимку с нею, да и заснул.
А тут вдруг – «папуля»!..
Явился домой с работы вне всякого режимного распорядка. И – навёл порядок. Выключил газ, открыл настежь окна, и выдрал Великого – на позорище, на погляд всему двору, на крыльце дома, – выдрал безо всякой пощады сыромятным ремнём по голой заднице. И Великий в очередной раз покинул дом.
Отчий дом…
***
Вот те и «День непопадания в урну…»
***
Под мнозими нозями
День непопадания в урну был не самым болезненным в долгом странствии по земле, по её долам, стремнинам, страстям. Его, непредсказуемого Неандертальца,
почему-то очень много били в этом опасном, рехнувшемся, ничего не понимающем мире. Били в основном кроманьонцы – по своим ничтожным понятиям…
***
Так много, и по разным поводам били, что вывел закон «бития»:
«Чтобы жить и что-то понимать, надо делать больно. Тебе же делают? Жизнь делает. Больно. А другим, подопытным? Иглы втыкают, хвосты крысам режут, собак распластывают… экспериментируют. Иначе опыта, знаний иначе не набрать…
А они нужны, знания? Кто ж разберёт»
***
«…это тебе не детские игры, это старинное дело, это очень странное дело!.. Как только увижу Кремль – х… встаёт» – мистически этак, выражая полнейшее недоумение, говаривал Великий. И вспоминал, как его потоптали у Кремля.
***
«Трахнул прямо в Александровском саду, на травке, под самой кремлёвской стеной одну тёлку… а раньше не мог, не вставало…» – плакался притворно. Притворно, ибо тогда ещё любил только одну девочку, а не тёлку – отличницу Тоньку Длиннюк. А она его нет. Ещё нет. Длинная, прыщавая, не очень складная отличница из хорошей еврейской семьи, чем она привлекла хулиганистого неандертальца Великого? Тайна…
***
«Как много девушек хороших!
Как мало искренних шалав!..»
(Из заплачек Великого)
***
Купил он неприступную отличницу дичайшим образом. На свидании, которое вымолил перед окончанием школки, рассказал, как заснул пьяный в сортире… и – упал с унитаза. Ушибся, разбил голову…
Длиннюк, побледнев от кошмарного откровения, пала в обморок. Тут же, на скамейке, под вешней сиренью…
Но, очнувшись, прониклась к идиоту какой-то необычайной, жертвенной, необъяснимой, вседозволяющей любовью. Женщина, женщина… тайна…
***
И – разразился выспренне:
«Порядочный человек стихов писать не станет!..» —
И написал:
«Как много девушек хороших,
Как много ласковых вымён!..»
***
И переписал:
«Как много девушек хороших,
Как мало искренних шалав!..»
***
После падения в обморок, а также дальнейшего падения вообще, Тонька уже готова была – на всё…
Но, вишь ты, у него, якобы, не вставало нигде, кроме как у Кремля.
***
«Державный восторг, однако! Или фаллический символ?.. Кремль! Башни, башни, башни торчком! Как тут не встать Самому?..»
За это менты (спецменты кремлёвские) и простили. За «Державный восторг». Потоптали, правда…
***
«Щучка не захочет, карась не вскочет…»
***
Первый удар тяжкого глянцевого сапога по голой жопе Великий ощутил на склоне травянистого кремлёвского холма, в Александровском саду. Прямо под Кремлёвской стеной. Ощутил, освобождаясь, наконец, в соитии от длительного застоя в простате. Крик счастья и – одновременно – боли вознёсся выше кремлёвских башен. Но не был услышан свыше. Снизу услышан был.…
Битие Великого менты, изумлённые кощунственной картиной совокупления в ясный день прямо у Главной Святыни Державы, продолжили уже в спецузилище. Могли и насмерть забить, но неслыханная дерзость пучеглазого болвана, а также «Державный восторг», про который избиваемый продолжал вопить, смягчили сердца глянцевых спецментов.
И потом даже налили ему стакан чистой, и похвалили девочку Длиннюк за молчание и благоразумно опущенный взор во время истязания распластанного на бетоне голого, белого, но уже синеющего червяка.
***
«…и окажешься под мнозими нозями…» – воздевая палец нравоучительно, многозначительно потом возвещал Великий.
***
Быль и небыль. Пыль и непыль.
***…а ведь и то, без стыда рожи не износишь.***Из «фразок» Великого:«В женщине всё должно быть прекрасно и членораздельно…»***«Не красна изба углами,А прекрасными полами…»***Добрых — большеЖенщина. Сосуд ненасыщаемый
***
«Женщины, женщины…
Зубы исскрежещены!..»
***
Супруги – годяи. Просто возлюбленные – ещё не-годяи. А супруги – годяи.
Женщины… женщины…
***
Хорошо, что молчала Тонька. Но ещё лучше, что Великий удержался и не прочёл ментам под водочку гадкие стишки:
«Кто в Кремле живёт,
Тот не наш народ…»
Стишки были длинные и глумливые. Когда я посоветовал уничтожить их напрочь и не читать никому, нигде, никогда, ни при какой власти, он, кажется, послушался. Во всяком случае, в архиве продолжение покудова не найдено.
Жаль. Стишки были смешные…
***
Бормотун-дурачок
Смешные стишки посочинивал Великий. А уж какие смешные, а то и гадкие в смешной нелепости поступочки совершал – не пересказать!… и ведь почти все не по своей воле! Одолевали врождённые недуги: клептомания, перемежающаяся глухота и слепота к очевидному миру, Фантазии, брызжущие помимо воли и разумения, тиски обстоятельств, из которых человеку не вырваться…
***
Решился после долгого расставания с Тонькой, уплывшей с родителями в другую страну, покончить со всем этим. То есть, отважился, наконец, после отказов (девичьих, в основном, отказов) зарезать сам себя…
***
Но вначале продекламировал приговор. Самому себе:
Совсем колдунчик,
Бормотун-дурачок,
Сел на чемодан
Добивать бычок.
Божественною высью
Обласкан, бит,
Надует жилу, мыслью
Немыслимой скрипит…
— «Надоело скрипеть!» – воскликнул высокотеатральный, стоя перед зеркалом. Плюнул в подлое стекло и побрёл в магаз. Взял «бармалея», пару «огнетушителей». Ну и выжрал на лавочке. Естественно, из горла. А далее… далее покатило совсем уже предсказуемое: разбил сосуд о сосуд…
Поскуливая, забрался в кусты, подальше от аллейки, где до этого горестно и прощально пил, зарылся в листву, чтоб никто не нашёл в гибельном позоре самоуправства, вскрыл вены осколком…
***
«Женщины, женщины…
Зубы исскрежещены!»
***
Не быть бы Великому Великим, ан хранила судьба. Или недоля проклятая.
Прогуливалась в те поры парочка по аллейке. Долго, видно, прогуливалась… парню захотелось пописать. А где, как? Для этого надо придумать причину, достойно удалиться. Придумал, конечно.
И удалился…
***
В итоге пописал не на что-нибудь, а прямо на умирающего в кустах, уже окровавленного Великого, – неразличимого за листвой.
Вызвали неотложку, спасли щедро орошённого, грустно отплывающего в нети…
«А зачем, зачем?..» – Трагически вопиял потом нелепо спасённый.
Потом добавлял, однако: «Божья роса…»
***
И запил снова. И записал дрожащею рукою о жизни и смерти. Назвал: «Труба»:
«Умеp.
Веpней, по-укpаински —
Вмеp.
В дёpн, в смеpть недp
Вpос.
Всё. Труба.
В космос вхожу, как пленный в воду.
Гощу тяжело.
В пустой вселенной шаpю, как меpтвец.
Шарю, шарю, шарю…
Ну, ну, – давай!
…не убывает.
Жил, как-никак, всё ж…»
Внутри человека ничего нет
***
И всё ж по излогам, по извилистым долам расколотого, битвами людскими разделённого мира вился Великий долго… а страшная болезнь клептомания не отпускала. Ну не мог он не взять то, что неважно лежало. Миропорядок рушился!
***
Всхлипнул однажды:
«А может быть, мир и не готов меня правильно воспринимать?..»
***
И ведь не корысти ради крал, а только ради смутной, неведомой, в глубочайших недрах затаённой надобы. Не жадобы, а именно надобы. То, что лежало хорошо и важно, не крал. Тут миропорядок не рушился. По врождённому недомоганию (или свыше наущенному?) брал только плохо лежащее.
И старел, и грузнел, и слеп… и писал чудовищные, выдающиеся вирши, и держался, как мог, но…
Раскол между промысленной сутью и грязным миром ломал его. Ломал прозрачные крылья. Мутные потоки не давали увидеть большинству смертных его бессмертный огненный кирпичик, таимый в застенчивой душе, так и не размытый до конца, но так и не блеснувший однажды во всю ослепительную мощь ахнувшему и вдруг чудесно прозревшему миру…
***
Обрывочки:
«Снова ловят кого-то менты…»
***
«Из огня да в полымя
Через пень-колоду…»
***
«Светохода. Светофора. Кривошип…»
***
«…отголоски Рая – наша прозрачность. Полная уверенность в ней. На поверку – кажимость. «Череп… это шлем космонавта?». А как же! Вот, прилетели. Думаем.
Думаем, что все видят и знают, что думаем. Прозрачные же.
А «все» не знают, не видят. Не видно мыслей, которые думаем. Шлем не прозрачный. Вот и бардак – от недовидений. Трагедия нестроения, недосостык…»
***
Как жук, постаревший и подслеповатый, залетел-таки снова. По малому делу залетел – не смог в очередной раз не украсть то, что очень плохо лежало в занюханной фруктовой лавчонке…
Залетел, как жук, заплутавший среди медовых палисадов залетает в открытую форточку, которая вдруг коварно захлопывается сладким, фруктовым ветерком…
Залетел в узилище. И очень там тосковал.
Болел… всё болело внутри. Били много. А врачей толковых нет. Как быть?
И снизошла на него редкая в космическом милосердии мысль – внутри человека ничего нет! Следовательно, болеть нечему…
Самое интересное – мысль помогла. Да как! Боль отпустила. И не возвращалась потом весь оставшийся срок…
***
Осталось в архиве кое-что из тюремных дум:
***
«Гнилой, значит умный. Образованный, сложный. Это по тюремным понятиям, здесь, на земле так считается. А вот в Раю человек – прост. Не образованный, не гнилой. На землю же отправлен с порчей, со знанием. Знанием соблазна, для начала.
Как-то станет он там, на земле, проходить «процесс гниения»? Кто ж это знает? Это ему – испытание. Сумеет ли достичь святости, стать светящимся, преодолевшим гниение? Или всё-таки – «провоняет?..»
***
«Диогена, «гнилого», поелику умного, винили современники, коллеги-завистники-злопыхатели. Обвиняли в подделке денег. «Фальшивомонетчик!» – кричали вслед. Пытались даже статью впаять. А за что? За тезис циничный, «собачий»:
«Пересматривай ценности! Подвергай сомнению всё! Переменяй взгляды!». Вменили в вину: мол, это не что иное, как призыв подменивать деньги. Перековывать якобы. Деньги-то были у граждан-патрициев главной ценностью, вот и гнобили они, неумные. Гнилого гнобили, умного. Именно так поняли его тезисы. Пытались засудить гнилого. «А не заносись, умный, проще надо быть, чище. Цельным надо быть, бессмертным! Аки боги. Аки бессмертные одноклеточные. Аки амёбы.
Простейшие. Вытрепки Рая…»
***
Полюбил Великий, в перерывах между изгнаний, узилищ и прочих смутных дыр бытия, пьянство в одиночестве. Задумчивое такое пьянство. Выудил в умной книге оправдание: да это ж «Экзистенциализьм»!
И сочинил эклогу:
Экзистенциальная натурфилософия
1
«Задраив двери на засов,
Откупорив сосуд вина,
Как натуральный философ,
Я сел подумать у окна…
2
Итак, предметы: ночь. Луна.
Литр убывающий вина.
Хор завывающий собак.
Сиречь — предсущности. Итак.
3
Стриптиз крепчал. Мамзель Луна
Терроризировала псов…
Цвела сирень… была весна…
Я слёзы слизывал с усов.
4
И думал я о том, что там,
Где всё оплатим по счетам,
Ни дум не надобно, ни дам…
5…о том, что суд что там, что тутНеправ, — хренов…6…что вновь сосудБессмыслен, — пуст…7…что вновь сосутПустые мысли…8…что ни сна,Ни дум невинных, ни вина,Ни дам нет — думал…9…на хренаТакие думы — думал…10…наКой хрен у лунного окнаВся эта хрень, сирень, весна?..11
Сосите сами, суки, суть
Натуралисты, свой сосуд,
Философисты, блин!..
12
…хана.
Сосуд сей высосан — до дна.
Предсущность — опредмечена.
13
А) Я слёзы вылизал с усов.
Б) Угомонил предметом псов.
В) Я поступил как философ…
14
– !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
– ???????????????????????????…
– !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!…
15
…и не ходите у окна!»
***
Мысли и наблюдения записывал Великий со школки. Вначале в карманный блокнот, потом где придётся. Шнуровал тетради, когда было время, а то и просто записывал на обёрточной бумаге, на разноцветных салфеточках. А чаще в амбарную корявую книгу, доставшуюся от тётки-кладовщицы на овощной базе. Трудно разложить оставленный Великим «архив» строго по жанрам, по полочкам. Но кое-что оказалось возможным, набралось несколько почти одностилевых циклов. Или под-циклов. Как то: «Штудии». «Максимки». «Салфеточки». «Наблюл». «Белибирдень»… ну и так далее, в том же роде.
***
Из под-цикла «Наблюл». Скорее, «подслушал»:
«…весна. Кошки орут во дворе. Пьяный крик из окна соседа:
– Ну, кто там опять детишек мучает?!.»
***
Однажды, в том же в узилище, озарило Великого. Пришло объяснение всей жизни – почему его не берут ни в ад, ни в рай, а держат, всё держат и держат на этой, совсем несчастливой для него земле.
Он понял, что Человек – Ракета!
И записал:
«В любой ракете есть топливо, и пока человек (та же, блин, ракета) не выработает горючее, его не отпустят никуда, ни вверх, ни вниз. Это касается и детей, и совсем ещё младенцев: один изработал топливо мгновенно, мощно, и его – забирают… куда? Бог весть. Он-то – ведает. Знает.
Другой сто лет мыкается на земле. И хотел бы уйти, ай нетушки. Плачет, хнычет, сопли на кулак мотает… нетушки! Не изработал топлива, соплива… – сопла слабые, узкие…
Живи и не ропщи, сволочь!..»
***
Неандерталец бы так не подумал…
***
Вру!
Именно так бы и подумал Неандерталец.
***
А может быть, всей своею жизнью Великий писал… Евангелие?
Евангелие от Неандертальца…
***
Почитав книжку россказней знаменитого вруля, записал Великий на голубенькой салфеточке. Сказал недоуменное:
«А, поди, каждый человек, думая о своей смерти, повторяет в отчаяньи или возмущении:
«Не может быть, этого никогда не может быть, этого со мной никогда не может быть!..».
Повторяет, и не может в этот момент увидеть себя со стороны. А жаль. Увидел бы малого ребёнка, слушающего сказки Мюнхаузена и вскрикивающего раз за разом:
«Не может быть!.. Не может быть!.. Этого не может быть!..»
Поискать и обнаружить рассказчика – не приходит в голову.
***
Из тюремных сетований и кошмаров Великого:
«…если это смеpть, зачем теснилась
В обpазе мужском? Зачем клонилась
К свету и pадела обо мне?
Если жизнь – зачем лгала и длилась?
…дpожь, pастяжка pёбеp, чья-то милость,
И пеpеговоpы – как во сне…
Боже мой, зачем он был так важен,
Так велеpечив, так многосложен,
Пpавотой изгажен и ничтожен?
Я же пpогоpал в дpугом огне!
Я же помню, уговоp был слажен
Пpо дpугое!.. И во мне ещё
Что-то билось, что-то гоpячо
Клокотало, будто в недpах скважин —
Гоpячо!.. И Свет – косая сажень —
Молча пеpекинул за плечо
Жизнь мою…
Кабы ещё и всажен
В нужный паз…
Ну, да и так ничо…»
* * *
Жёлтый лист — символист
Ничо-то ничо… вся жизнь была ничо, по его же признанию. Ни хороша, ни плоха, а так… ничо. Пустота. Высокая буддийская Пустота, как в зачинной буддийской молитве: «О, Великая Пустота!.»
Та самая пустота, из которой рождается ВСЁ. И ночь, и день, и облака среди синего неба, и град из них, невинно-белых поначалу, а потом вдруг наливающихся синевой, переходящей в непроглядную черноту, и – град, побивающий всё. И – дождь, орошающий нивы… ВСЁ!
Вот это «ничо» и было, пожалуй, самым тайным путеводителем Великого по долам земным, по вёснам, зимам, осеням… по всему.
***
Плакался Великий, плакался горько, что болен, странно хвор каждой осенью. И не банальной простудой, чем-то погаже. Подозревал дурь, шизофрению. Говорил, что помещает кто-то в его башку пластинку, а на ней одна только фраза – и крутится, и крутится, и крутится… никак не отвязаться!
«Как это никак?! — воскликнул вдруг однажды – надо прописать это, воссоздать детально бредятину, а там… там, гладишь, отвяжется!..».
И написал: «ПРИВЯЗАЛОСЬ – ОТВЯЗАЛОСЬ»
«…жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист,
жёлтый лист – символист…»
ПРИВЯЗАЛОСЬ!
Только осень на дворе, – тупо глядя на древо, силишься что-то искреннее, глубокое вспомнить… и вот-те на! – «жёлтый лист – символист, жёлтый лист – символист…»
Нет, это уже нечто окончательное, гармонически завершённое нечто, этакая «вещь в себе». Аномалия, грозящая стать «нормой».
Нет, тут если вовремя не разобраться, не разомкнуть цикла, чёрт знает что вывернется из потёмок подсознания… да и само сознание помрачит…
Ну хорошо, разомкнём, успокоимся. Разберёмся.
В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…
Так? Так.
А чуть-чуть изменив: в начале было – СЕМЯ.
Итак, – миф.
Миф пал семенем в почву (скажем, в почву общеевропейской культуры).
Пал семенем-памятью дерева, памятью его, дерева, былого могущества, целокупности. И безгласным обещанием самоповтора всего цикла в целом —
цикла роста-цветения-плодоношения.
Это начало.
А далее? А далее – росток.
Это ветвится миф: свежими песнями, молодыми преданиями… и вот, чуть погодя, – цветение этих ветвей. Языческое буйство культуры, опыление будущего, завязи колоссальных духовных вымахов…
АНТИЧНОСТЬ!
Эвоа, эвоа, эвоэ!..
И – мощное эхо-вызов с востока: «Ой, Дид-Ладо!.. Таусень, Таусень!..»…
Но цвет сошёл.
И – ровное кипение листвы прокатывается по долгим эспланадам:
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ.
Эстетика равномерного зноя, внимательное вглядывание в себя, в потаённую сущность свою – плоскостную. А сквозь неё – в оконца иных измерений…
ЛИСТВА – ИКОНА