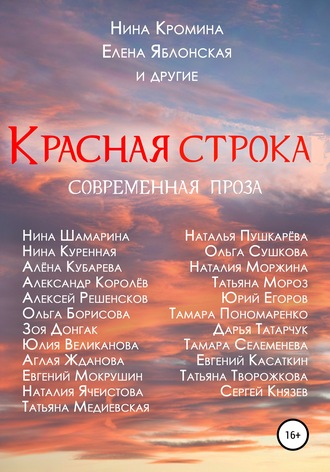 полная версия
полная версияКрасная строка
На самом деле, «когда жизнь прошла», уже не важно, на что именно ты ее ухлопал. На что ухлопал свою жизнь профессор из «Скучной истории»? На свою любимую науку и любимых студентов. Жизнь его была очень важна и нужна людям, а научная деятельность прославила его на весь мир. Но он не счастливее дяди Вани…
Попробуем разобраться в мыслях и чувствах главного героя пьесы.
Середина второго действия. Елена Андреевна со словами «Оставьте меня. Это наконец противно» уходит, Войницкий остается один. Авторская ремарка «(один)» дорогого стоит. Она встречается в пьесе лишь однажды. Чехов не стал бы, кого ни попадя оставлять на сцене одного. С этого момента и до прихода Астрова с Телегиным все, что говорит дядя Ваня, он говорит самому себе, а значит – нам, зрителям. На сцене у него слушателей нет. Ему нет нужды притворяться, врать, рисоваться, что-то скрывать. Он говорит предельно откровенно. Это единственный в пьесе монолог-исповедь, который дается не для пояснения действия, а для того, чтобы мы узнали, что творится в голове героя, его мысли. Заметим, кстати, что право произносить такие монологи предоставляется исключительно главным героям, мысли которых существенно важны для понимания смысла происходящего. Второстепенные персонажи такой чести, как правило, не удостаиваются. Даже у Астрова нет такого монолога.
Итак, что же мы узнаем о мыслях дяди Вани? Они путаются у него в голове…
Он сожалеет о том, что Елена Андреевна не стала его женой и тут же признается: «Ее риторика, ленивая мораль, вздорные ленивые мысли о погибели мира – все это мне глубоко ненавистно». Он не влюбился в нее десять лет назад, не любит и теперь, несмотря на всю ее красоту, которой он восхищается. Мы понимаем: мечта о счастье с Еленой Андреевной – иллюзия.
Он горько сетует, что обманут Серебряковым: «И я обманут… – вижу, – глубоко обманут…». Но причем тут Серебряков? Разве он виноват, что дядя Ваня обожал его, работал на него, как вол, гордился им и его наукой, жил, дышал им? Разве профессор виноват, что он не гений, что он совершенно неизвестен, что он ничто, мыльный пузырь? О каком обмане тут может идти речь? Мы понимаем: обвинение в загубленной жизни, выдвинутое против Серебрякова – тоже иллюзия.
Дядя Ваня совсем запутался. Он живет иллюзиями. Он ищет виноватых там, где их нет, но он не может их не искать. Иначе мозг его лопнет, разорвется, не выдержав мысли о том, что в его погубленной жизни никто из окружающих не виноват, что так оно случилось само собой, в силу каких-то иных, не ведомых ему причин.
Допустим, что Елена Андреевна стала его женой или Серебряков оказался всемирно признанным гением. Предположим даже невозможное – из дяди Вани вышел Шопенгауэр или Достоевский! (Отмечу, кстати: одно то, что Шопенгауэр, буддист, мистик и мизантроп поставлен в один ряд с Достоевским – православнейшим человеком, говорит о большой путанице в голове дяди Вани). Сделало ли бы все это его счастливым? Нет, конечно. Он не был бы счастлив с Еленой Андреевной, а на Серебрякова, который просто подвернулся под руку, ему вообще наплевать. Ему глубоко безразлично, гений профессор или мыльный пузырь, ничего не понимающий в искусстве. Напрасно Войницкий протестует, палит из револьвера, кричит о своей загубленной жизни. Ни любимая женщина, ни любимое дело, даже если бы оно у него было, ни удовлетворение желаний, ни слава Достоевского или Шопенгауэра не могут спасти от ужаса сознания бессмысленности жизни, в которой «даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей идеей или богом живого человека». Особенно, когда жизнь эта уже прошла, и смерть приблизилась на расстояние протянутой руки.
И кричать дяде Ване надо не «Пропала жизнь!», а «Прошла жизнь!»
Нет, за воплем о пропавшей, безрадостно прожитой жизни, за трагедией будней, за грязной и пошлой, засасывающей, как болото, уездной действительностью стоит что-то другое. Герои сами не понимают, что с ними происходит. Астров думает, что их заела обывательская жизнь, но все его разговоры о том, что единственное, чем может быть оправдано истребление лесов, это приход новой жизни: строительство шоссе, железных дорог, заводов, фабрик, школ, отчего народ стал бы здоровее, богаче, умнее – не более, чем риторика, словоблудие. Никого еще шоссе, железные дороги, заводы и фабрики не сделали ни здоровее, ни умнее, а уж тем более, счастливее. Давайте на минуту закроем глаза и представим, что бездорожье, нищета, тиф, дифтерит и пожары в уезде чудесным образом исчезли, болота высохли, комары испарились. Всюду школы, больницы, телефон, телеграф, чистые просторные избы без телят и поросят на полу, с больными вместе – и что, от всего этого люди сразу сделаются счастливыми? Как бы не так!
Так в чем же тут дело? Что кроется за общей растерянностью, подавленностью, неприкаянностью, ощущением совершающейся или уже совершившейся катастрофы? Никто не знает…
Очевидно, трагедия не во внешних обстоятельствах, а во внутреннем душевном состоянии героев. Но что это за душевное состояние, каково его содержание, чем оно, главным образом, характеризуется – этого Чехов не объясняет. Как справедливо отмечает Г.А. Бялый: «То, о чем говорят герои Чехова, – это часто далеко не самое главное, чем они живут, что волнует их души. И происходит это потому, что говорящий еще сам не разобрался в своих переживаниях. То, о чем он думает, еще не ясно ему самому, не созрело в его сознании, существует только, как предощущение и не может быть выражено точными словами».
Предположений, претендующих на объяснение этого состояния, переживания, предощущения – назовите как угодно – за сто лет накопилось вагон и маленькая тележка. Почти все они социального свойства. Под идолом, в жертву которого принесены жизни людей, предлагается понимать, например, …идею народничества. «Конфликт, который составляет драматический узел "Дяди Вани", несомненно, был навеян временем. В эпоху заката когда-то вдохновлявших и питавших чувство либеральных и народнических мелкобуржуазных надежд в широких интеллигентских кругах крушение идеалов, утрата уважения к молчавшим уже идеологическим вождям должны были стать явлением обычным» – пишет А.П. Скафтымов. Как ни странно, мысль о крушении идеалов далеко не так примитивна, как может показаться на первый взгляд, но только идеалы эти совсем не те, о которых пишет Скафтымов.
Боже мой, как же скучны все эти глубокомысленные рассуждения о том, что драма Чехова уловила умонастроения уездной поместной России конца XIX века и приближает нас к разгадке многих грядущих событий в русской истории. Какое мне до этого дело? Меня волнует совсем другое! Я вряд ли когда-нибудь узнаю, почему, посмотрев «Дядю Ваню» в конце позапрошлого века плакал Горький, но мне важно понять, почему сто двадцать лет спустя, плачу я. Неужели главным итогом, главным результатом «перепиливания тупой пилой» должна явиться простая незатейливая мысль о том, что «так жить нельзя»?
А.П. Скафтымов выводит из этой мысли целый общий принцип построения Чеховских пьес. Он пишет: «Кто виноват, что Войницкий считал Серебрякова кумиром, заслуживающим жертвы всей жизни, а он оказался пустым человекам, и жизнь Войницкого ушла напрасно? Кто виноват, что Астров не имеет того чувства к Соне, какое составило бы ее счастье? Кто виноват, что Астрова измучила, духовно изуродовала глухая и глупая жизнь и чувства его выветрились понапрасну? Нет виноватых». И далее следует вывод: «Если переживаемый драматизм является принадлежностью всего уклада жизни, если индивидуально виноватых нет, то выхода к лучшему можно ждать только в коренном перевороте жизни в целом. Приход лучшего зависит не от устранения частных помех, а от изменения всех форм существования». Что скрывается за словами «изменение всех форм существования» объяснять, по-видимому, излишне. Наш народ в 20-м веке на собственной шкуре испытал все «прелести» этого самого «коренного переворота жизни».
Но в то время, когда писалась пьеса, ни сам Чехов, ни его герои не могли знать, чем обернутся для людей такие вещи, как «прогресс», «просвещение», «гуманизм», «свобода», «демократия», столь вожделенные сознанию русского интеллигента конца XIX – начала XX века. Что не только не дадут они счастья человеку, не только принесут ему неисчислимые страдания и муки, но и ввергнут ум его в адское пламя безбожия, атеизма, позитивизма, крайнего индивидуализма и окончательно опустошат его душу. Хотя, сокровенное, слабое, едва живое, глубоко скрытое под безобразными наростами материалистического мировоззрения душевное переживание уже подсказывало великому писателю, что все это не к добру. От этого-то и живет в чеховских героях непонятная им самим, неизбывная, необъяснимая, щемящая душу тоска. Люди не знают, зачем живут. Каким страхом, каким ужасом, причиняющим почти физическую боль, объяты они! Каким неподдельным отчаянием проникнуты слова дяди Вани: «Мне сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остается еще тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их?.. Если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как дым. (Плачет.) Начать новую жизнь… Подскажи мне, как начать… с чего начать…»
Дядя Ваня плачет. Чем утешить его, что посоветовать? Если бы знать… Но все-таки рискну предположить, что начать надо с веры. Истинной веры Христовой. Ею нужно наполнить душу, тогда и жизнь начнет мало-помалу наполняться смыслом. Рискну предположить, что тоска, живущая в чеховских героях – не что иное, как плач души по живой христианской вере, безвозвратно ими утраченной, замененной на суррогаты, так называемые «гуманистические идеалы», как зараза просочившиеся к нам с «просвещенного» Запада и покрывшие отвратительными гнойными нарывами и язвами всяческих «-измов» наши православные души.
Рискну предположить, что тоска эта не чужда была и самому великому писателю, и это, быть может, более всего роднит его с дядей Ваней, делает их похожими. Но нельзя уже преодолеть того, что, как ржавчина, въелось в душу, в ум, в сознание, что так ярко, с таким последним отчаянием выразилось в словах профессора из «Скучной истории», вне всякого сомнения, написанных Чеховым о самом себе: «Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука – самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу».
Мы уже не в состоянии освободиться, победить в себе это пресловутое псевдонаучное мировоззрение, завладевшее всем нашим существом и изгнавшее из душ и сердец наших Бога. Но и мириться с идолом мы больше не хотим. Вот тут-то помимо нашей воли и происходит в нас «крушение идеалов», о котором говорилось выше. Но дело не в самих идеалах, не в их содержании, на которое нам, говоря откровенно, давно уже наплевать, а в том, что они изменили наше сознание, сделали нас духовными инвалидами, не способными уже увидеть, что «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). Мы и хотим верить, да не можем.
Богооставленность – вот причина нашей тоски. Причем, богооставленность эта не оттого, что Бог оставил нас, а оттого, что сами мы оставили Бога, отвергли его, отвернулись от него, вытравили его из себя иностранной отравой. А что получили взамен? Животный страх смерти и дикую, не укладывающуюся в голове бессмысленность существования. Ведь, если земная жизнь – не путь к вечности, если задача ее – лишь репродукция, воспроизводство себе подобных в качестве расходного материала для поддержания обменных процессов в биосфере, то смысла в ней не больше, чем в жизни глиста или таракана. Мы сами лишили себя надежды.
И надежду эту возвращают нам слова Сони, никогда еще не звучавшие с такой пронзительной убедительностью: «Бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную… Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир и наша жизнь станет тихою, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую…»
Боже мой, какие слова! Знать, в христианской душе они могли только родиться. Но… Давайте сравним их со словами Ольги из финального монолога «Трех сестер»: «Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь».
Какая поразительная разница! Оказывается, страдаем мы исключительно ради счастья будущих поколений. Мы – лишь навоз, удобряющий почву, из которой впоследствии должны взойти цветы радости для тех, кто будет жить после нас, когда счастье и мир настанут на земле. А нас, в лучшем случае, помянут добрым словом. Вот что предлагает нам взамен вечной жизни материалистическая идея. Какое блестящее решение вопроса о смысле бытия!
Так кому же нам верить, Соне или Ольге? Каждый волен выбрать это для себя сам – таков ответ великого писателя. Но нас, тем не менее, сто с лишним лет склоняли и до сих пор продолжают склонять на сторону Ольги. Г. А. Бялый пишет: «Люди хотят знать, зачем они живут, зачем страдают. Они хотят, чтобы жизнь предстала перед ними не как стихийная необходимость, а как осмысленный процесс. Каждый думает об этом по-своему, но все думают примерно о том же. Когда в "Дяде Ване" Соня мечтает увидеть "жизнь светлую, прекрасную, изящную" в загробном существовании, она все-таки думает о нашей, земной жизни, какой она должна была бы быть».
Какое заблуждение! Нет! Слышите? Нет!! Соня говорит и думает вовсе не о земном! Если бы это было так, весь ее монолог был бы фальшивкой, недостойной того, чтобы им восхищался мир. Про светлое будущее человечества, про рай на земле нам теперь все хорошо известно. Мы очень хорошо знаем, к чему приводят попытки сделать земную жизнь светлой, прекрасной, изящной, «какой она должна бы быть». Ничего, кроме бесчисленных жертв, крови, смерти миллионов людей это не приносит.
В конце 1904 года, уже после смерти Чехова, М. О. Гершензон напишет о нем: «Люди, томившееся в сумерках, полюбили его не за искусство, с которым он изображал эти сумерки, а за то, что он весь был страстная тоска по яркому солнцу, по голубому небу, или, вернее, за то, что он сумел выразить эту тоску, жившую в них самих». Это очень правильные слова, но Чехов, как мне кажется, тосковал все-таки не о лучшем социальном устройстве общества, когда «счастье и мир настанут на земле», а о духовном устроении человека. Не о благах думал он, но о Благодати. Потому что никакие материальные блага не способны изменить человека к лучшему, но лишь Благодатью Духа Святого может он обновиться, очиститься от греха, сделаться светлым, радостным и по-настоящему счастливым.
Нет, господа! Соня говорит не о земной жизни, но о жизни вечной, дарованной нам, грешным и недостойным, самим Спасителем. И в сравнении с нею земная жизнь, какою бы она ни была интересной, разнообразной, богатой впечатлениями – ничтожна, презренна. Соня говорит об этом прямо, искренне, с верою. И не надо искать в простых, сердечных словах ее никакого подтекста. Ради этого мы живем, ради этого страдаем. Только в этом смысл нашего земного существования, потому что, знаем мы об этом или нет, но люди созданы «дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян., 17:27–28). Об этом, кстати, писал и сам Чехов в своих записных книжках.
И все-таки, Г.А. Бялый отчасти прав. Дело в том, что если смирит человек гордыню свою, и душа его обратится к Богу, то пребудет он в раю уже в земной жизни, которая воистину станет для него светлой, прекрасной, изящной уже здесь, на этом свете. Что бы ни творилось вокруг, мир воцарится в сердце его, и услышит он ангелов, и увидит небо в алмазах, ибо истинно сказано: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).
Мир тебе, дядя Ваня. Нет, не пропала жизнь твоя, и не могла она пропасть, как не пропадает у Бога ни одна живая душа. Успокойся, не рви себе сердце. Послушай, что говорит старая няня: «Все мы у бога приживалы… Никто без дела не сидит, все трудимся!» Вот так и ты трудился, честно трудился для других, близких и не очень близких тебе людей. А это по-божески, по-христиански. Да, ты не был совершенен. Ты осуждал, завидовал, раздражался, и даже палил, куда попало из револьвера. Да, ты не стал ни Шопенгауэром, ни Достоевским, но для Бога это не важно. Для Бога важно, какое у тебя было сердце. А сердце у тебя было доброе.
Я плачу. Я плачу вместе с тобой. Но это не плач о загубленной жизни. Это молитвенный плач о любви, о Боге, о вере, которую мы с тобой потеряли, и которую очень хотим обрести вновь.
Татьяна Творожкова

Стихи начала писать с 9-го класса, а делать какие-то шаги в прозе: по окончании литературных курсов А. В. Воронцова в марте 2018 г. пришла в ЛИТО «Точки», познакомилась с прозаиками, их работами.
Полуденное солнце
Когда я вхожу в мир Максимилиана Волошина, обретаю равновесие. Это не хрупкий мир брутальных мужчин. Это мир света, ясности, понимания. Мировоззрение поэта слилось с природой, и ее законы открыты для него.
С детства правильное видение, интуитивная потребность в одухотворенности разума делали его не управляемым. Ребенок не может объяснить своего внутреннего состояния, не может обозначить свои потребности: остается протест. На уроках в гимназии читал книги, писал стихи. Впоследствии говорил: «Ни гимназии, ни университету я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. Десять драгоценнейших лет начисто вычеркнуты из жизни». Макс уехал учиться живописи в Европу. Это Франция, Италия. С рюкзаком за плечами ходил по странам. Возвращался домой, опять уходил.
1990 год. Я увидела альбом Максимилиана Волошина в книжном магазине. Спасибо, Господи! Я тогда скупала все, что относилось к «Серебряному веку». Рерих! Другие цвета, а в остальном Николай Рерих. Вижу в картинах китайские приемы, оказалось, японские. Японцы умело использовали китайские техники живописи. Движение руки, нагрузка на определенные мышцы. Кун-фу. У Максимилиана глубочайшее видение природы. Лучше всех таких результатов достигли японцы, уходя от китайских влияний. Он изучал японскую живопись.
В разговоре с художницей Ю. Оболенской о стихах, написанных для пейзажей, Максимилиан ответил: «…строфа не вполне соответствует тому, на что Вы смотрите, но она связана с общим настроением. Их сочетание не параллельно, а иррационально. Мне кажется, что это одна из возможностей сочетания слова с рисунком». Максимилиан, я вас обожаю! «Одна луна луне другой / Глядится в мертвенные очи». «Зеленый воздух дня и охра берегов».
Кто он художник или поэт? Говорил: поэт. Поэт, у которого свой взгляд на искусство. Искусство проникало в его жизнь и расцвечивало ее.
В 1893 году Макс с мамой перебираются в Коктебель. Киммерия. Тьма. Далеко от центра. Но какие горы! Какое море! Взрослел, осваивал, обживал. И как обживал! Создал Центр Культуры. Поэты, писатели, художники стремились попасть в гостеприимный дом. Вносили свои творческие настроения в «общий котел». Марина Цветаева, Андрей Белый и еще многие – многие из тех, чьи высвеченные временем имена навсегда внесены в список больших Мастеров, их творчество еще долго будет исследоваться. Рожденные в царской России, они отличались от нас, рожденных в советский период. Максимилиан. Миротворец. Создавал (построил дом для друзей), спасал, утешал, соединял… Один из самых образованных людей первой половины ХХ века. Тогда они молодые, задорные веселились, наслаждались счастьем общения. Тупо, навязчиво нависало бездушье нового времени. Врывалось к ним со своими коррективами.
Край этот жаркий, самая удобная одежда – хитон, облачение художника. Максимилиана видели в нем всегда. Художник, реализуя образы, создает свой. Это вызывало разные толки, шутки друзей. Макс оставался собой. Когда работал, уединялся и просил с ним не разговаривать. Правила строгие и касались всех. Я смотрю из далекого XXI века. Вижу его за столом, вижу: поднимается на гору Кара-Даг большой, величественный. Иду за ним, тишина звучит шумом моря. Волны моря бьются о камни, и эти звуки исчезают в пространстве, в пространстве, где время теряет свою форму, где нет прошлого, все объединяется и попадает в один поток. Еще мгновение и поток схватит и унесет… Открываю глаза. Гранитная плита, обсыпанная со всех сторон камнями, – точка. Здесь все сходится. Стою у плиты и смотрю на море. Все поглотило море. Незримое присутствие Макса осталось. Спускаюсь и иду по берегу к горе Волошина. Хочу в море, хочу поделиться своими мыслями с волнами. Они помнят Макса. Мой пляж у горы Волошина. Иду никого не замечаю вокруг и ни на что не отвлекаюсь, чтобы не спугнуть восторг, восторг пережитого.
В его, к тому моменту почти достроенном доме, появилась жена, Маргарита Сабашникова. Жена. Люди влюбляются. Хотят быть вместе. Она – царевна, он – поэт. Для него любовь то, из чего можно построить замок. Настоящий, функциональный замок. Добродетели ждут, и Любовь добродетель… Маргарите понятней страсти. Ей понятнее тот, кто может соблазнить, бросить. Понятней тайны, что создают горькое прошлое. Там каждый за себя. Добросердечие у Волошина. Поддерживал Маргариту в ее несчастьях. «Не царевич я! Похожий, / На него, я был иной… / Ты ведь знала: я – Прохожий, / Близкий всем, всему чужой». Таиах. Макс находил сходства и тем создавал прекрасные образы. Художницу и свою музу Маргариту сТаиах, египетской царицей. В дальней, выступающей вперед в море горе, увидел свой профиль. Эта гора стала называться горой Волошина.
Для него и «белые» и «красные» – свои. Цельность дает особое обаяние, осознание себя в природе больше, чем в обществе. «Близкий всем, всему чужой». Удел философа суров. Люди любят похожих на себя. Не умея различать, не прощают отличий. Размахивали красным флагом: «Кто не с нами – тот против нас». Не важно, что двигаются к пропасти… В ногу и с песнями, безоглядно.
Тяжело смотреть на происходящее, но как влиять? Поэт во всех видит равных, любое убеждение – естественный ход событий. Глубокое уважение к людям отзывалось в них симпатией к этому удивительному человеку. Ни разу никого из тех, кого он прятал, не нашли. Таких случайностей не бывает. Поведение человека – его судьба. У Максимилиана – Высокая Судьба. В том хаосе, где все трещало и ломалось, как в море в шторм, он выплывал.
В его жизни появилась Мария Заболоцкая. Жена, друг, хранительница идей и имущества. Сохранила все: дом, картины, библиотеку, черновики, баночки из-под акварели, кисти… Когда люди совпадают, рассказы другие: "Лика милого черты – / Всех миров преображенья". Хочется говорить и говорить, когда внутри несовпадения кричат от боли, как это было с Сабашниковой. Тысячи лет назад человеческий крик сотворил молитву. Стихи, посвященные первой жене – молитвы.
Я мало задумываюсь над идеалами. Никто ни для кого не пример. Если мало работать над своей внутренней жизнью, никто и никуда не выведет. Никогда не думала о Максимилиане, как об идеале. Поэт, философ, художник. Смотрю из другого времени на его жизнь и вижу: в этом мире все возможно. Парадоксально? Парадокс – закон Вселенной. Юмор тоже. Его юмора не понимал никто. Если парадокс уравновешивает и подводит к золотой середине, то юмор широко открывает глаза, делает мир ярким. У Любви – чистые цвета, радость. Я с упоением читаю стихи, посвященные Маргарите. Макс не искал понимания там, где оно не живет. Он на Маргариту молился. Он за нее молился.
Есть разночтение в дате рождения. В Интернете 28 мая, а в книгах 16 мая. Может ли это быть шуткой Максимилиана, Судьбы? Уходит ли Судьба, если человек не дожил свой век? Возможно, это игра нового и старого стиля.
Хотелось несколько слов сказать о «…возможности сочетания слов с рисунком» в стихах: «Пятно размоет линию, / И линия вживается, / Уходит в силуэт. / И вот они единые, / Но линия бахвалится – /Ее престиж задет. / Кричать и доминировать. / Куда отступит творчество? / Кому оно сродни? / Нет, чтобы балансировать, / Творить, а не потворствовать, /У края западни». Образ линии у меня – линейное восприятие жизни. Пятно – цикличное.
На фоне Максимилиана Волошина воинственные чиновники не смотрелись так, как на фоне революции. Его книги запрещали, а жители нашей огромной родины переписывали от руки, что для Макса отрада.
В августе 2019 г., Ирина Силецкая, в музее Максимилиана Волошина организовала посиделки на заднем крыльце, где когда-то сидели Макс и его гости. Мы шумели, читали свои стихи по кругу. Замечательно вписались. Спасибо Ирине!


