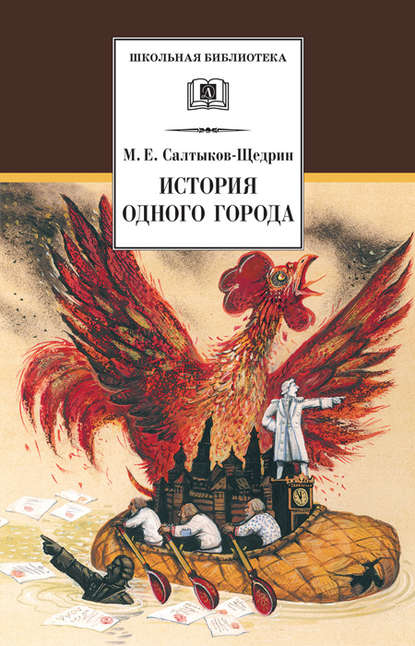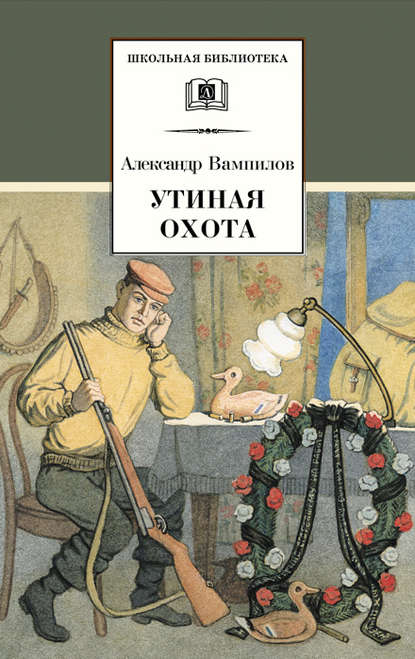Полная версия
Кораблики, или «Помоги мне в пути…»
Кимка сказал наставительно:
– Тогда было наше дело, среди пацанов. А сейчас общественное. Ты против пионерского отряда идешь, значит, ты против советской власти.
Тут я ему и вделал! По носу! Даже для себя неожиданно. Рука будто сама размахнулась – и хряп! И закапало у него на вельвет шоколадного цвета… Кимка пискнул, быстро сел за парту, уткнулся лицом в ладони… И вокруг, конечно, шум, крик. Неизвестно откуда – Клавдия Георгиевна и наша Анна Игоревна… В общем гвалте и в хлюпающих словах Кимки выяснилось, что Патефон, то есть Петька Викулов, против целого коллектива. Украл часть медной добычи, потому что тайно верит в Бога, хотя и «Торжественное обещание» давал. Да еще руки распускает…
Клавдия сказала.
– Это уже переходит всякие границы!.. Ты что, Викулов, правда верующий?
– А вам-то что?…
Я вполне мог ответить «нет». Потому что был вовсе не верующий. Но она хотела, чтобы я отказался от того, что любила мама. Пусть этот оклад не с маминой иконы, но такой же. Тем более теперь, когда той иконы нет… Сейчас у меня будто ниточка между мной и мамой, а если уступлю, отдам… Но разве им объяснишь! Стоят, сопят, ждут. Как тогда, вокруг Турунчика… Только сам он, Турунчик, поодаль и глаза опустил…
– Еще и кулакам волю дает! – возмущалась Анна Игоревна. – Да ты и одного пальчика Блескунова не стоишь! Его в классе уважают, а ты…
– Завтра сбор! – заявила Клавдия. – И ты, Викулов, готовься просить прощения у всех ребят. И не забудь принести то, что… взял. Если не хочешь расстаться с красным галстуком.
Я, конечно, не хотел расстаться с галстуком. Даже подумать о таком было жутко. И я шел домой почти уверенный, что завтра отнесу в школу кусочек золотистой жести – пропади все пропадом! Но дома взял его в ладони и… в обрамлении лучистого кружева словно увидел два печальных лица с понимающими и жалеющими глазами. «Что поделаешь, раз кончилась твоя храбрость, Петушок…»
Тогда, значит, уже нельзя будет вспоминать по-хорошему, как мы с мамой сидели рядом и я щекой лежал на ее плече…
В сарае нашел я широкую толстую доску, с трудом отпилил ножовкой кусок сантиметров тридцать длиной. Наждачной бумагой почистил одну сторону. Наложил на дерево жестяной нимб, расправил, прибил по краешкам сапожными гвоздиками… Не икона, но все же намек на нее.
– Никому не отдам. Честное орлёнское…
Это у меня для самого себя была такая клятва. Я придумал ее, когда влюбился в песню про Орленка.
И чтобы отрезать путь для отступления, отнес я доску в тот самый церковный подвал. Фонарика у меня не было, лазил со спичками. Поставил доску в нишу, посветил спичкой последний раз.
– Вот, здесь вам будет хорошо. Потому что ведь церковь… И никто не найдет. А я еще приду…
На следующий день у меня отобрали галстук.
За то, что ничего не объяснял, не отвечал, верю ли в Бога. Молчал как каменный. И украденную вещь не принес, и прощения не стал просить – ни у Блескунова, ни у коллектива. Что с таким делать?
– Сам виноват, – сказала Клавдия Георгиевна. – Кто «за»?… А ты, Турунов, разве не «за»? Умнее всех, да?
Турунчик тоже поднял руку, только смотрел при этом в парту. Впрочем, не он один смотрел в парту. Это я сквозь намокшие ресницы видел от классной доски, куда был вызван для обсуждения и покаяния.
Клавдия развязала на мне галстук. Я не сопротивлялся. Не от страха, а просто ослабел. Но когда она хотела спрятать мой старенький, но все равно блестящий сатиновый галстук в свою черную с бисером сумочку, я сказал сквозь царапанье в горле:
– Не имеете права, это мой. Мне мама покупала…
– Ну и забирай, пожалуйста! А носить не смей!
Домой вернулся я с ощущением безнадежной беды. Как приговоренный. То, что клятву я не нарушил, главное не отдал, слегка грело душу. Но беда все равно давила тяжко. Кто я теперь? Все равно что враг народа, белогвардеец какой-то…
Я скорчился на чурбаке за сараем и сидел не знаю сколько. Там и нашел меня Валька Сапегин. Забежал, чтобы вместе идти на репетицию хора. Я похоронно сказал, что не пойду.
Он спросил тихонько:
– Что случилось-то?
И тут я разревелся. И рассказал ему про все. Не такой уж он был близкий друг, но все же единственный, кому я мог излить горе. Про находку я, правда, не сказал, а объяснил, что выгнали за драку.
Какой теперь хор! Как я выйду на сцену! Все в галстуках, а я… И как петь про Орленка, если не имеешь права на кусочек знамени, под которым он, Орленок, воевал?… И наверно, Эльза и сама не захочет меня близко подпускать, когда узнает про все.
Валька потоптался рядом, подержал меня за плечо и ушел тихонько. Ласковый он был и понятливый…
3На следующее утро, собираясь в школу, галстук я надел. Чтобы тетушка ни о чем не догадалась. А за квартал от школы снял, стыдливо оглядываясь. В классе от меня отворачивались, но не враждебно, а скорее виновато.
Вечером выяснилось, что хитрил я с галстуком напрасно: тетя Глаша все узнала. Анна Игоревна позвонила ей на работу. Ох и устроила мне тетушка!
Дядя Костя даже сказал:
– Ну чего ты орешь на пацана! Чего он такого сделал-то?
Он хороший был дядька. Иногда катал на мотоцикле, а в воспитание мое не вмешивался. Тетушка наорала и на него, он плюнул и пошел на двор курить с соседом дядей Геной, отцом десятиклассницы Насти. А тетушка принялась за меня снова. Она была мамина сестра, но ничуть на маму не похожая. Старая, всегда всем недовольная. А главное – недовольная мной. Вот и сейчас:
– Лучше бы уж воровал! А то ведь надо же, в богомольцы навострился! Мне что на работе-то скажут, когда узнают!
Я не выдержал:
– Там что, все такие дураки?
Она дала мне затрещину и заявила, что терпенье у нее кончилось. Как только начнутся каникулы, она станет оформлять мои документы для детдома.
Я следом за дядей Костей ушел на двор.
Как ни странно, а после такой встряски я чувствовал себя легче, словно сбросил часть груза. И даже последние слова тетушки меня на этот раз не испугали. В детдом? А уж вот фиг вам, Глафира Герасимовна! В кармане у меня лежало письмо с адресом в городе Дмитрове…
Я опять устроился на чурбаке и начал выстругивать из сосновой коры суденышко. И успокоился. Я всегда успокаивался, если выстругивал кораблики… И то, что случилось недавно, уже не казалось теперь таким ужасным. Всякая беда со временем слабеет. Когда случилось несчастье с мамой, я думал, что конец света, но прошла неделя, потом месяц прошел, потом год, и вот живу…
Здесь, за сараем, и нашла меня Длинная Эльза.
Эльза Оттовна Траубе появилась в Старотополе в сорок первом году. Не по своей воле. До той поры она жила в Москве. Когда началась война, всех людей, у кого немецкая национальность (пускай хоть они Германии в глаза не видели и даже их дедушки-бабушки родились в России) стали выселять из столицы. Взрослые говорили, что Эльзе еще повезло. Многих отправляли в подневольную трудармию, а кое-кого и «за проволоку».
Не знаю, как жила и что делала Эльза Оттовна в годы войны. А в сорок шестом она стала работать в городском Доме пионеров. Музыкантшей. Муж ее тоже был музыкант и даже композитор, только незнаменитый. Говорят, сочинял музыку для детских спектаклей. Но он умер еще до войны. Были у них дети или нет, я не знаю, в Старотополе Эльза Оттовна жила одна-одинешенька. И все свое время отдавала работе.
Главным ее делом был мальчишечий хор. Девчонок она почему-то не жаловала, говорила, что не находит с ними общего языка. А с пацанами она ладила, хотя и строгая бывала на репетициях. Ребята за глаза называли ее Длинная Эльза и Фрау Труба, но относились к ней хорошо.
Иногда Эльза Оттовна собирала нас в своей тесной комнатке с железной солдатской койкой и обшарпанным пианино. Не всех сразу, конечно, а человек по пять – семь. И надо сказать, меня звала чаще других. Поила нас чаем и заодно учила вести себя за столом. Рассказывала, как до революции была гимназисткой, а потом училась в консерватории, как ходила на выступления настоящего, живого Маяковского. И как вместе с мужем готовила музыку для детского театра.
Однажды Эльза Оттовна рассказала, что муж ее сочинял оперетту «Остров сокровищ». Там все было не так, как в книжке или кино. Билли Бонс в оперетте оказывался вовсе не злодеем, а хорошим дядькой, он сам подарил мальчишке Джиму карту с кладом на острове. Среди пиратов невесть откуда появилась жизнерадостная старая негритянка, которая с Джимом подружилась, а коварному Сильверу надавала пинков. А сокровищ никто не нашел, но все равно все кончалось хорошо, потому что главное в жизни вовсе не богатство, а дружба… Жаль только, что дописать оперетту муж Эльзы Оттовны не успел – умер.
– А вы сами допишите, – посоветовал Валька Сапегин.
Эльза Оттовна грустно улыбнулась:
– Приходит порой такая мысль. Если бы еще талант…
Мы наперебой стали убеждать Эльзу, что таланта у нее на десять оперетт. Она тряхнула короткими седыми волосами, села к пианино.
– Вот такая там была песенка:
Да здравствует остров зеленый,Лежащий за черною бурей,Вдали, за семью морями,За искрами южных созвездий!Да здравствует смех и дорога,Да здравствует море и дружба!Да здравствует все, что не купишьНа черное золото Флинта!..Голос у нее был слабенький, дребезжащий, но все равно хорошо получилось. И мы захлопали.
Я, наверно, хлопал дольше других, потому что Эльза Оттовна вдруг пристально глянула на меня (я, конечно, застеснялся, глаза в пол) и вдруг сказала.
– Оперетта веселая, но есть в ней одна песня… такая… очень, по-моему, тебе понравится…
Вот новости. Почему именно мне?
Эльза Оттовна заиграла было, остановилась и объяснила:
– Это юнга Джим поет перед тем, как уплыть к острову. Прощание… – И заиграла опять, запела:
С нашим домом сегодня прощаюсь я очень надолго.Я уйду на заре, и меня не дозваться с утра…Слышишь, бакен-ревун на мели воет голосом волка?Это ветер пошел… Помоги мне осилить мой страх.Я боюсь, ты меняНе простишь за уход, за обман.На коленях молю:Не брани, пожалей и прости.Разве я виноватВ том, что сóздал Господь океанИ на острове дальнемКлинками скрестились пути…Я молю, помоги мне в пути моем, бурном и длинном,Не оставь меня в мыслях, молитвах и в сердце своем,Чтобы мог я вернуться когда-нибудь в край тополиный,В наш родной городок, в наш старинный рассохшийся дом…Жидкий старческий голос Эльзы окреп. Или мне это просто показалось. Но когда она закончила песню, чудилось, что спел ее мальчишка.
Теперь никто не хлопал. Слишком серьезно все это было. И Эльза поняла нас. И спросила тихонько:
– Я вот думаю… Может быть, подготовить это для нашего хора?
Конечно, все наперебой заговорили, что надо готовить. И на меня смотреть начали… ну, с пониманием, что ли. Ясно ведь было, что главным-то образом эта песня для меня, для солиста.
Стали репетировать. По-моему, здорово получалось. Я полюбил «Песню Джима» даже больше, чем «Орленка». Порой слёзы внутри закипали, когда на самых высоких и ясных нотах выдавал: «Я молю, помоги мне в пути…» Но петь эти слезы не мешали, только я чувствовал, какой от них в голосе звон…
Правда, перед первым выступлением чуть все не сорвалось. Директору Дома пионеров или кому-то в гороно пришло в голову, что это молитва. Мол, мальчик поет перед иконой, просит защиты у Богоматери, а это религиозная пропаганда. Но Эльза Оттовна умела быть упрямой и бесстрашной. Доказала начальникам, что юнга Джим поет у кровати своей мамы перед тем, как тайком уйти на шхуну. Недаром ведь: «Я боюсь, ты меня не простишь за уход, за обман…»
В конце концов песню разрешили. Только потребовали слово «молю» заменить на «прошу», а вместо «создал Господь океан» петь «есть на Земле океан». «Прошу» вместо «молю» петь было плохо, слова переучивать некогда, все равно случайно я спою по-старому. Так что оставили все как было, тем более что прежнего директора прогнали за пьянство, а новому было не до нас.
Мы много раз исполняли «Песню Джима» на концертах. И всегда нам хлопали так, что просто гул в ушах. Иногда приходилось петь даже снова, на бис.
Но это было давно, в прошлой жизни. В ту пору, когда я был нормальный человек, с красным галстуком.
Эльза Оттовна остановилась рядом. Я вскинул глаза, сказал тихонько: «Здрасте». И снова стал обстругивать кусок коры. Эльза Оттовна в своей длинной черной юбке со складками безбоязненно села на пыльные деревянные козла – они стояли тут же, за сараем.
– Валя мне все рассказал…
Я дернул плечом. Не было у меня причины сердиться на Эльзу, но я защищался от ее сочувствия. Впрочем, скользнул в голове и упрек: «Чем сюда приходить, пошла бы в школу да заступилась…»
Она словно услыхала мою мысль.
– Я была в школе. Пыталась объяснить, как все это… неумно. Но, к сожалению, не получилось… Знаешь, я никогда не умела разговаривать с учительницами. Еще со времен гимназии…
Я опять шевельнул плечом: что, мол, тут поделаешь…
Эльза сказала осторожно:
– Но я, Петя, не понимаю главного. При чем тут хор? Ведь у нас-то никто тебя не обижал…
Глаза у меня уже набухли, но я опять на миг глянул Эльзе в лицо:
– Как же не понимаете? Все в галстуках, а я…
– Мне кажется, что это все же не главное. Главное, как ты поёшь.
В самом деле до нее не доходит, что ли? Вот стоит на сцене в три ряда хор, на каждом красный галстук, а я впереди – с голым воротом. И все видят. И все знают. И я как… приговоренный какой-то. Как Турунчик тогда… И хотя бы причина была! А то ведь ни за что!
– Ну ладно… – вздохнула Эльза. – А… что ты мастеришь тут?
Я сказал опять полушепотом:
– Кораблик.
– Понятно. А какой именно кораблик? – Ей, видимо, важно было продолжать разговор. Хоть о чем, лишь бы не молчать. – Бывают ведь всякие… фрегаты, шхуны…
Я ответил суховато, но без упрямства:
– Это обет.
Она поняла сразу. Не спутала со словом «обед». Но удивилась:
– Разве такие бывают? Не слыхала.
Я не поленился, сходил в сарай. Там на полке со всяким хламом лежали несколько подшивок старинного журнала «Нива». Я принес тяжеленный том. Открыл посредине. Там была картинка.
В бедной, с каменными стенами и окном-щелью, церкви стоял перед иконой мужчина. Длинноволосый, в жилете со шнуровкой, в таких же, как у меня, штанах с пуговицами под коленками, в деревянных башмаках. За штаны рыбака цеплялась крошечная девочка в чепце с оборками и в платье до пола. Видимо, дело происходило в давние времена в какой-то голландской или французской деревне. Мужчина был, скорее всего, рыбак. Он держал очень красивую модель корабля. Протягивал ее к иконе. Кто на иконе, было не видать, только край и лампада. А кораблик был различим до каждой мелочи: все узоры на корме, швы на парусах, крошечные блоки, лесенки-снасти…
Эльза Оттовна чуть улыбнулась:
– И ты считаешь, что «обет» – это род парусника? Вроде брига или шлюпа?
Именно так я считал. Рыбак сделал кораблик на радость дочке и для украшения своего бедного дома. И принес в церковь, чтобы освятить его. Я знал, что в прежние времена был обычай освящать всякую готовую работу: брызгать святой водой и говорить молитвы…
Эльза Оттовна очень мягко сказала:
– Здесь, Петя, дело обстоит не совсем так. Картина называется «Обет», потому что здесь обещание. Клятва Богу… Наверно, этот моряк попал в страшный шторм и пообещал Спасителю и Богородице, что, если вернется невредимым, сделает красивый кораблик и поставит его перед образом в церкви. Так было принято…
Я почти не смутился. После всего, что случилось, какое значение имела моя ошибка… Но я задумался на минуту. Что-то досадное почудилось мне в таком обычае. Словно торговля какая-то!
Ты меня спаси, а я тебе за это кораблик… Конечно, когда для жизни жуткая опасность, что угодно пообещаешь. А лучше бы подарил заранее…
Я спросил, подавив неловкость:
– А бывает обет, чтобы наоборот? Ну, чтобы не в уплату за какую-то милость, а просто так?…
Точнее выразиться я не умел. А думал вот что. Если человек верит в Бога (я-то не верил, но сейчас речь не обо мне, а вообще), то он должен делать ему что-то хорошее не ради выгоды, а просто так, из любви. Чтобы радовать его… Хотя, с другой стороны, зачем Богу и его Сыну и Божьей Матери игрушечный кораблик? Ведь им стоит лишь пожелать – и появятся миллионы всяких кораблей, хоть из чистого золота… Да, но ведь маме, если по правде говорить, тоже не нужны были картонные домики, которые я склеивал и раскрашивал к ее дню рождения и к Восьмому марта. А она все равно радовалась. Потому что подарок, потому что я для нее старался. Потому что основное в подарке… любовь. Да…
И Эльза Оттовна, кажется, опять поняла меня.
– Конечно, можно и так, Петя… Главное, когда от души… – Потом снова спросила со вздохом: – Ну, а как же с хором-то, а?
Я вновь ожесточился.
– Не знаю… Никак. Без галстука я на сцену не выйду.
– Я тебя понимаю… Но и ты пойми. И тебе плохо без хора, и нам без тебя плохо…
– Я тоже понимаю… – И опять я отвел намокшие глаза.
– Видишь, оба понимаем друг друга. А договориться не можем… Будто идем разными параллельными тропинками, а сойтись не получается.
– Потому что параллельные не пересекаются…
– Иногда, Петя, пересекаются.
– Ну, это только в бесконечности. Не в нашем мире.
– О! Ты знаешь и это? Слышал про геометрию Лобачевского?
Я слышал. От соседки Насти… Она была худая очкастая отличница и хотела сделаться математиком. Но тот наш разговор начался не с математики. Несмотря на свою серьезность, Настя, как мальчишка, увлекалась марками. Мы иногда вместе разглядывали свои коллекции, менялись и даже спорили. И вот я увидел у нее серую марку с незнакомым портретом и подписью: Н. И. Лобачевский.
– Это кто? Моряк?
– Это ученый.
– А почему в мундире?
– В старые времена в университетах профессора носили мундиры… Он знаменитый математик. У него труд есть «Теория параллельных линий», я недавно читала.
Я хихикнул:
– Чего там про них сочинять-то, про параллельные линии?
– А ты что про них знаешь?
Геометрию я, конечно, еще не учил, но про параллельные знал из книжек.
– Это такие, которые тянутся рядом друг с дружкой. На одинаковом расстоянии, как рельсы. И нигде не пересекаются. – И я вспомнил, как мы в прошлом году с мамой ходили в ближний лес за грибами.
– А вот и пересекаются! – торжественно заявила Настя.
– Врешь! Тогда они, значит, не параллельные!
– Ты рассуждаешь с точки зрения Эвклида. А у Лобачевского своя наука. Параллельные могут пересекаться, только очень далеко, в самой бесконечной бесконечности, где искривляется пространство.
– Как это?
Она стала объяснять и, по-моему, запуталась сама. И я, конечно, ничего не понял. Но поверил. Показалось, будто уловил что-то. Потому что вспомнил: рельсы ведь тоже соединялись в одну точку – далеко-далеко, у горизонта, когда их догонял взгляд. Взгляд – это когда глаз ловит прилетевшие издалека лучи света. От той точки, где соединились рельсы. А если приближаешься, они раздвигаются. И ты видишь это, потому что свет опять прилетает к тебе. Со своей сумасшедшей скоростью… Говорят, эту скорость никак-никак никому не обогнать, закон такой есть научный. Ну, а если представить, что все же обогнал! Примчаться к точке, где соединились рельсы, быстрее света! Тогда они, значит, не успеют разойтись! И получится, что параллельные сошлись!..
Конечно, я не знал тогда, что этот ребячий бред, этот крошечный проблеск догадки – первый атом в громадной пирамиде теории межпространственного вакуума. Той самой, на базе которой создана «Игла», прошивающая теперь многомерные миры… Тогда я сказал Насте: «Ладно, я пойду» – и ушел поскорее, потому что главным в моих мыслях было в тот момент все же воспоминание о маме: как мы идем вдвоем по рельсовому пути. Впрочем, и сейчас, в разговоре с Эльзой, тоже…
Я сказал сумрачно:
– Пускай хоть какая геометрия… а без галстука петь не буду. Я… себе слово дал. – Это я лишь сию секунду выдумал, но, чтобы отрезать все пути, сказал тут же мысленно: «Честное орлёнское».
– Вот, выходит, как. Значит, обет дал такой?
Я уклончиво промолчал: при чем тут это? Но…
может, и правда обет. Не только себе самому обещание, но и… Вспомнился подвал, доска с жестяными нимбами. Вот так все сплелось в жизни.
– Ну, а ко мне-то зайдешь в гости? – спросила Эльза Оттовна.
– Ладно, – прошептал я.
Она ушла. А я нашел среди дров другой кусок сосновой коры, большой и плотный, и стал вырезать новый кораблик.
Я мастерил модель все следующие дни. Даже тогда, когда зубрил билеты для экзаменов по русскому языку и устной арифметике. В школе никто меня больше не трогал. Экзамены я сдал средне: письменные на четверки, устные на тройки. Но это не из-за придирок, просто я всегда так учился. Тетушка из-за троек разворчалась и опять упомянула про детдом. Скорее всего, просто пугала. Но мне уже было все равно. Я твердо знал, что будет скоро.
Через несколько дней доделаю кораблик и унесу туда. Это будет мой подарок, мое прощание. И просьба помочь мне в пути… Ну и что же, что не верю? Мама-то верила. Значит, есть какая-то сила и справедливость… А потом – в дорогу.
До города Дмитрова (я посчитал по карте) полторы тысячи километров. Если шагать по шпалам пятнадцать километров каждый день, понадобится сто дней. Лето и кусочек сентября. В такую пору ночевать можно где придется и топать налегке. А иногда можно ехать и на попутных товарняках. Про это немало книжек и кино. Добрые люди на пути всегда угостят куском хлеба, не дадут пропасть мальчишке… А то, что догонит и поймает милиция, – это сказки. Разве отыщешь маленького пацана среди пространств громадной страны?
Как меня встретит отец, я не очень задумывался. Наверно, не прогонит. Сам же написал тогда: «Сын ведь…» Да и вообще конечная цель представлялась мне такой далекой… ну, как бесконечно удаленная точка, где сходятся параллельные линии. Главным делом казалась мне теперь сама Дорога – с ее неожиданностями, встречами, новыми местами, приключениями. Я понимал, конечно, что порой придется нелегко. И тогда
Помоги одолеть мнеИ жажду, и голод, и боль…Ничего, одолею…
Теперь странным кажется, что не появилась у меня простая мысль: написать отцу. Нет, я ничего не боялся, просто в голову такое не приходило. Наверно, это странности мальчишечьей психики. Не думал я и о том, что отец много раз мог сменить адрес; ведь письмо-то он прислал в сорок шестом, а сейчас на дворе был пятидесятый…
Спокойно и как-то просветленно готовился я в путь. Заранее уложил в портфель сухари, полотенце, запасные майку и трусы, кружку, ножик, туго свернутую суконную курточку. И любимую, мамой подаренную книжку «Пять недель на воздушном шаре». В эти дни я старался быть послушным, с тетей Глашей вовсе не спорил. Не потому что вдруг полюбил ее, а словно чувствовал: незачем брать с собой груз всяких обид и грехов, даже мелких.
Зашел как-то к Эльзе Оттовне, но соседка сказала, что она хворает, сейчас уснула и тревожить ее не надо.
Вальке Сапегину я отдал на память свою коллекцию марок. Объяснил, что наскучило собирать их. А о предстоящей Дороге не сказал, конечно. Валька, он хороший, но, когда начнут искать, не выдержит, расскажет. Хотя бы для того, чтобы опять увидеться со мной.
Потом я отыскал Турунчика и подарил ему свой оловянный пистолет. Очень Турунчик удивился, заморгал белесыми ресницами. Никогда ведь мы не были приятелями.
– Спасибо… А почему ты… мне?
– Нипочему. Так… – вздохнул я.
Чувствовал, что виноват перед ним. Даже не только перед ним, а вообще. И этот грех (пожалуй, самый крупный в своей жизни) мне тоже не хотелось уносить с собой.
Как хорошо все-таки, что я тогда не успел ударить его…
В классах – особенно там, где одни мальчишки, – часто бывает по два командира. Один – какой-нибудь образцово-показательный активист, назначенный школьным начальством в председатели или старосты. Другой – ребячий император, утверждающий свою власть крепкими кулаками и презрением к школьным порядкам. Чаще всего это амбал-второгодник. Но в нашем классе амбала не было, и Ким Блескунов успешно верховодил всюду. И на пионерских сборах умело командовал, и в тех делах, которые не нравились учителям. При этом всегда оставался уверенным в себе, спокойным и яснолицым, как мальчик с плаката «Отличная учеба – подарок Родине».
Он-то и приговорил Турунчика к публичный казни.
Дело было в конце сентября. Мишка Рогозин и Нохря перед уроком рисования натерли классную доску парафиновой свечкой – фокус известный: мел скользит, следов не оставляет. Конечно, крик, скандал: «Кто это сделал?!» Два дня разбирались, и завуч наконец как-то выведала про виновников. Ну, досталось им, как водится, и в школе, и дома…
И кто-то пустил слух, что наябедничал завучихе Юрка Турунов. Не знаю, почему так решили. Может, потому, что за день до этой истории Нохря довел Турунчика до слез, и у кого-то появилась мысль: он, мол, в отместку заложил Нохрю. А может, просто потому, что был Турунчик робкий и безответный.