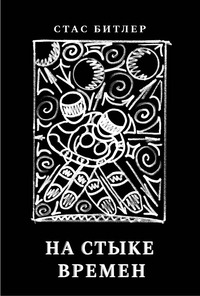Полная версия
Моя революция

Стас Битлер
Моя революция
© Битлер C., 2014
© Прокопьев Д. Ф., художественное оформление, 2014
© Лысов А. Н., консультант, 2014
© Оригинал-макет. ООО «Реноме», 2014
Описанные в произведении мнения и поступки действующих лиц не во всех случаях совпадают с точкой зрения автора и призывом к каким-либо действиям не являются.
Для связи с автором
stas.bitler@rambler.ru
Впервые за всю жизнь, вернее не за всю, а за тот ее отрезок, который считается сознательным, то есть за последние лет пятнадцать, мне стало по-настоящему страшно. Конечно, меня не могут приговорить к смертной казни, но получить пожизненное – хуже смерти! Это значит, что шанс выйти на свободу появится только через двадцать лет… В лучшем случае… Тогда мне уже будет сорок. В сорок лет люди – немощные старцы с пустыми глазами, бредущие от станка к телевизору через пивной ларек.
С улицы раздалось задорное девичье: «Сережа!». Через несколько минут крик повторился, усиленный хором отнюдь не стройных женских голосов. Через «дуршлаг» оцинковки на решетке мне удалось рассмотреть трех девчонок, устремивших свои ясные взоры в район третьего этажа. На третьем был «общий» блок. Там коротали время до суда крадуны, грабители, мелкие вымогатели и уличные наркоторговцы. Максимум, к чему приговаривали эту публику, – пятерка. Если бы я мог так легко отделаться!
Из окна, расположенного на уровне моего, только этажом ниже, послышалось:
– Танюха!
И в ответ:
– Сережа! У тебя сын!
– Скажи Светке, чтобы Юркой назвала! Меня в колонию переводят завтра! Два и восемь начислили! Пусть ко мне на свиданку приезжает!
Мне стало смешно и завидно одновременно. Смешно, потому что, с точностью до наоборот, похожие картины мне доводилось наблюдать возле роддома, на который выходило окно моей съемной комнаты. Почти каждый день молодые мамаши, высовываясь из палат, оповещали своих раззявивших рты под окнами подвыпивших избранников о половой принадлежности их потомков. Завидно, потому что какой-то там му…ак Сережа отсидит свои неполные два года в ближайшей колонии общего режима и благополучно вернется домой к своей Светке. Юрка его уже к тому времени будет уметь строить предложения и рисовать картинки в альбоме. И вот этот Сережа с высоко поднятой головой будет рассказывать своим дворовым друзьям – укуркам[1], как его почти что короновали на зоне, потому что он правильный пацан и никого не сдал, и укурки, пуская слюни, «схавают», что теперь за каждый проданный ими грамм гашика[2] надо будет закидывать лаве[3] в «общак», чтобы все было «ровно». Разумеется, им будет невдомек, что Сережа весь свой срок отходил с повязкой на рукаве, потому что статья у него «позорная» – двести двадцать восьмая[4], а освободился он раньше срока не потому, что «авторитеты» решили, а потому, что был яростным активистом в СДП[5]. Блаженны не ведающие! Вероятнее всего, «укурки» даже не узнают, что на перечисляемые ими в мифический «общак» средства Сережа будет покупать себе подержанные автомобили, а своей семье – всякие разные предметы быта.
Зависти моей хватило минуты на две – до того самого момента, пока ко мне не пришло понимание того, что Сережа как был му…ком, так им и останется, и следующий свой срок он получит уже по какой-нибудь сто шестьдесят первой[6], когда кто-нибудь из его укурков вовремя не заплатит лаве в «общак», и Сережа не заберет у него силой дорогой телефон или еще какой-нибудь гаджет. Я коротаю время до суда в своей «одиночке» два на полтора совсем по другой причине. Вернее, причин много, но, к счастью, следствию об этом ничего неизвестно. Сто пятая часть вторая пункты «е» и «л»[7] – это из того, что доказано и куча мала двести восемьдесят вторых.[8]
А как все хорошо начиналось! Разумеется, вынужденную необходимость после девятого класса идти работать сложно назвать хорошим началом, но зато – это уже взрослая жизнь! К концу сентября я стал относиться с презрением к большинству своих бывших одноклассников – маменькины сынки и мажоры! Больше все меня бесила их музыка… Не зря же говорят: «Ты – это то, что ты слушаешь». Все они слушали какую-ту х…рню.
Помню, как-то на выпускном староста класса Смородин вел дискотеку. Я его спрашиваю:
– «КиШ»[9] поставишь?
Этот ушлепок меня еще так одобрительно по плечу хлопнул, мол, отличный выбор, и через пару минут смотрю – на мониторе какие-то монобровные усатые девки затрясли животами и волоокий крендель, сладострастно щурясь, затянул что-то типа: «О май бэби, кищ, кищ, кищ…».
Я говорю:
– Сморода, ты охренел?!
А он так искренне удивился:
– Ты чего, это же Навруз Алиев, «Кищ-кищ»? Сам просил. Может, другое чего поставить? У меня целый альбом его есть!
Посмотрел я с тоской, как мои одноклассницы в пляс пустились, изображая из себя заправских жительниц гаремов, и решил, что чужой на этом празднике жизни:
– Не, спасибо, классная вещь.
С другой стороны, можно было понять их всех: путевки в жизнь давно оплачены состоятельными родителями, после одиннадцатого – институты, гарантированные рабочие места, ипотеки, дачи, джипы. Им не надо о чем-то париться, напрягаться… Вот они и живут, не утруждая себя какими-либо глобальными размышлениями, тем более о культуре.
Это с другой стороны! Я же, всегда будучи на своей, единственный из всего класса жил в коммуналке и ходил в школу пешком. Когда школа получила статус гимназии, мать вызвали к директору. Лицемерная гадина Диана Моисеевна долго «ездила по ушам», после чего мать вышла из ее кабинета, состарившись лет на десять, и всю дорогу бормотала себе под нос: «Не в формате нашего заведения.»
Дядя Валя, брат матери, этой Моисеевне «Вдову Клико» потом возил. Тогда я еще не знал, что это такое, а он со смехом рассказал:
– Слав, это шампанское такое французское… дорогущее!
– Может, не стоило?
– Да ладно, как пришло, так и ушло. Мне его тоже подарили… на работе.
Раньше я думал, что дяди-Валина работа участковым милиционером связана с борьбой со всякими хулиганами, пьяницами и даже преступниками, но никак не с дорогим шампанским.
Позже я «догнал», что это была банальная взятка, и сообразил, что имел в виду дядя Валя, когда сказал: «Как пришла, так и ушла», но мое отношение к нему нисколько не испортилось.
Единственное, что оставило осадок, это осознание того, что если ты не «в формате» – за это надо платить.
Быть «в формате» значило стать таким, как Смородин иже с ним. Для меня это было невозможно как с материальной точки зрения, так и с нравственной.
Все лето после девятого я вкалывал на шиномонтаже, где научился курить «взатяг» и пить слабоалкогольные напитки после смены. Как-то осенью, идя домой с увесистой «котлетой» кровных заработанных, я встретил своих бывших одноклассников и понял, что теперь меня разделяет с ними еще большая пропасть: здороваясь, они вели себя так, словно боялись, что ли… Если бы не этот ощутимый издалека, на молекулярном уровне, типичный страх представителей буржуазии перед пролетариатом, способным на решительные поступки, они наверняка сделали бы вид, что не узнают меня. Я из вежливости предложил им пойти вместе куда-нибудь в «суши», намекнув, что угощаю – они из вежливости сослались на серьезную занятость, выражающуюся в несделанных уроках, и отказались.
Потом я сменил еще не одно место работы, ведь «рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше».
Словно в подтверждение этой народной мудрости, я оказался тем самым человеком, который ищет, где глубже, – нелегкая занесла меня работать в «Метрострой».
Именно там-то и началась моя по-настоящему взрослая, полная «приключений» жизнь.

Поначалу я катал вагонетку с выработкой из шахты к подъемнику и обратно, а потом меня сменил худой высокий узбек с изможденным лицом. Я уже не помню, как его звали, – они все время менялись: кто-то, «разбогатев», возвращался на родину, кого-то депортировали, кого-то с завидной периодичностью отправляли в казенные дома за не в меру похотливые повадки или уличные грабежи. Мне и бригадир наш Саныч, хохоча и похлопывая себя по животу, все время говорил: «А чего с ними знакомиться – они все время новые!»
В общем, повысили меня из грузчиков в разнорабочие, и мое рабочее место перенеслось из шахты в вестибюль, что многократно расширило круг общения. Работа была тяжелой и скучной – это делало обеденные перерывы маленькими праздниками: заслуженные метростроевцы, в основном пятидесятилетние дядьки, раскладывали свои полиэтиленовые «скатерти-самобранки» на импровизированных столах, собранных из составленных в ряд пустых коробок, и потчевали друг дружку домашними харчами. Некоторые позволяли себе «махнуть по рюмахе», если начальника участка не было на месте.
Я в ту пору уже вел самостоятельное хозяйство в съемной комнате и запах домашних котлет пьянил меня воспоминаниями о том, как хорошо было дома, с мамой, пока она не завела себе дядю Сережу, который буквально в течение трех месяцев изменил ее представление об окружающем мире, и они, дружно взявшись за руки, не покатились по наклонной плоскости в алкогольную нирвану. Мои призывы перестать бухать и «подшить» своего избранника были гласом вопиющего в пустыне – мать только виновато улыбалась, бормоча, что посвятила мне всю жизнь и имеет право теперь пожить для себя и что интеллигентные люди не могут стать алкоголиками. Как-то в порыве праведного гнева я выставил на улицу пьяного в дым дядю Сережу. Он, будучи бывшим морпехом гренадерского роста, мог бы нокаутировать меня одной левой, но почему-то, виновато улыбаясь, повиновался мне и уселся на скамейку возле подъезда, бессвязно пытаясь продекламировать раннего Маяковского. Через несколько минут мать выбежала из подъезда с шерстяным одеялом и села рядом с ним. Такими я их и запомнил: два печальных пьяных старика с искалеченными судьбами, трогательно заботящиеся друг о друге. Дядя Сережа обнял мать за плечи и они, укрывшись старым, в нелепый цветочек одеялом, вместе смотрели в какую-то невидимую мне точку. На одеяло ровным слоем ложился снег, скрашивая пятна, потертости и зияющие дыры, прожженные во сне сигаретными окурками. Я вернулся в квартиру, выгреб из-под кресла, служившего мне кроватью, жестяную коробку со своими сбережениями и к вечеру снял нехитрую комнатенку в доме, не представляющем архитектурной ценности, недалеко от площади Восстания.
Словом, добродушные наставники мои – трудовая элита Ленинградского метро, из нечастых разговоров знающие о моей ранней самостоятельности, – стали приглашать меня к обеду за общий стол, чему я был несказанно рад. Одно дело йогурты-шаверма-суши, а другое – домашние котлетки или даже иногда полтарелки борща из термоса. Я был благодарен старикам и с каждой получки или премии, которая обмывалась строго после смены, украшал их «скатерти-самобранки» какой-нибудь иноземной сорокоградусной вкуснятиной в бутылке причудливой формы, благо лабаз был неподалеку от моего места жительства.
На одной из таких посиделок я сошелся с Аркадием. В бригаде Аркадия не любили и за глаза называли диссидентом, хотя острых отрицательных эмоций он ни у кого не вызывал. Разве что раздражал немного вечными разговорами о политике, о разворованной Отчизне, угнетенной олигархами, и о националистическом беспределе… Он был заметно моложе добродушных работяг, которые были вполне довольны своей судьбой и причин осуждать власти не имели. Аркадий тщетно пытался втянуть коллектив в какие-то акции, митинги и прочие не совсем законные мероприятия, мотивируя свои призывы тем, что большая часть соотечественников до сих пор прозябает в забытых богом и президентом городах, осиротевших после разворовывания градообразующих предприятий. Мне так и виделись картины спивающихся мужиков, которые от безработицы воруют гайки с железнодорожных путей и за гроши горбатятся на нелегальных лесопилках, рискуя своей свободой, хотя Аркадий говорил, что такая свобода – и есть самое настоящее рабство. Мужики обычно отмахивались от изрядно подвыпившего оратора – мол, у нас-то все хорошо, а другие пусть сами разбираются. Я же частенько заслушивался его манифестами и со временем на зубок знал: кто из олигархов и сколько украл, при каких обстоятельствах, сколько «откатил наверх» и какими благами обзавелся на нетрудовые средства. Старик По был прав: ни один капитал не может быть заработан честным трудом.
Подружила нас с Аркадием, как ни странно не политика, а музыка, вернее сказать – искусство, а если быть еще более точным – культурное наследие ранних постсоветских времен. Мне в память об отце досталась замечательная коллекция: десяток альбомов «Гражданской обороны» на потертых жизнью аудиокассетах, в основном самописных. Поэтому или по другим причинам, я, не в ногу со сверстниками, был большим почитателем творчества Игоря Федоровича. Однажды, после очередной производственной пьянки, я помогал своему старшему товарищу доползти до дома и увидел у него в комнате на стене пожелтевшую от времени черно-белую фотографию, на которой он, моложе, чем я сейчас, в кругу странно одетых людей стоял рядом с самим Летовым[10] (!).
Аркадий поднялся в моих глазах на уровень очевидца первого пришествия.
Позже я узнал, что мой коллега родом из Омска, где в свое время ему доверили руководство небольшой комсомольской ячейкой, но, узнав о неформальных взглядах, быстренько попросили из юношеской сборной компартии. В конце восьмидесятых он переехал в Ленинград, где почти закончил Политех, но все испортили ранний неудачный брак и, как у многих «неформалов» того периода, тяга к расширению сознания с помощью различных препаратов. Словом, человек трудной судьбы. За свои сорок с небольшим он успел полежать почти во всех психушках города, украсить биографию доброй сотней приводов в органы и даже отмотать срок в колонии-поселении за бытовое хулиганство по подставе бдительных коммунальных соседей.
Скорешившись, мы частенько после работы болтались по квартирникам (раньше я думал, что их уже лет двадцать не существует), много пили, слушали задумчивые песни под гитару, которые исполняли седоволосые приятели моего друга, и часами ломали головы на кухнях, как сделать лучше жизнь простых трудящихся. Очень скоро я узнал, чем «левые» отличаются от «правых», кто такие «центристы», и на примере «Ста лет одиночества» Маркеса сравнивал всю эту разношерстную публику с либералами и консерваторами.
Анархическая идея устройства общества, разумеется, представлялась мне утопией, но ведь под лежачий камень вода не течет, поэтому надо было что-то делать. По мнению многих моих новых знакомых, которое, в общем-то, совпадало и с моим, Аркадий был идеальной фигурой вождя с его знаниями, опытом и стремлением.
Самым простым способом были, конечно, интернет-рассылки, листовки и митинги. Вокруг нас сформировалось немало народу: по большей части приезжие студенты и безработные, правда, встречались и «мажоры». То ли от избалованности и пресыщенности, утягивающей в сказочный бунтарский революционно-подпольный мир, то ли действительно по идеологическим соображениям они периодически вливались в наши ряды. Учитывая их постоянную готовность делать финансовые вливания в дело революции, все члены нашего дружного, пока еще не очень радикального сообщества были бесконечно рады. Некоторые из них свято верили, что после победы Аркадия на выборах в Думу они займут рядом с ним лучшие места и получат замечательный старт для своей политической карьеры. Меня, конечно, изрядно подбешивали встречающиеся среди «мажоров» гбтэшники[11], но Аркадий успокаивал меня тем, что в по-настоящему свободном обществе каждый имеет право на самоопределение и выбор ориентации, тем более что эти «господамы», как я их называл, никогда не скупились на оплату адвокатов, передачек для политзеков и взяток чинушам за согласование акций.
Все складывалось просто замечательно, и вскоре у нашей партии появились филиалы во всех районах города и даже пара-тройка областных, но после очередного похода к Мариинскому дворцу с плакатами мой политический гуру уехал в Воркуту убирать снег на целых четыре года за найденную у него в капюшоне плитку гашиша. Знакомые журналисты пытались добиться справедливости, но компетентные органы искусно намекнули их боссам, что парни хотят в обход руководства сделать политическую карьеру – на этом их журналистские расследования и сошли на нет.
Однажды на Ладожском вокзале, отправляя через знакомых проводников передачу для Аркадия, я задумался о правильности его пути и пришел к выводу о несостоятельности анархической теории бытия. Раздавленный этим вопиющим открытием, я купил бутылку «русской» и какую-то мак-даковскую дрянь. Дрянь переложил в карман, бумажный пакет использовал как чехол для бутылки и спустился в метро. Проезжая перегон под Невой, я вспомнил, что когда-то участвовал в его ремонте, и не без ностальгии улыбнулся, потому что уже несколько месяцев работал внешкором в одном из интернет-изданий, куда меня устроили приятели Аркадия, и бывать в метро мне теперь доводилось крайне редко. На эскалаторе, ведущем к свету, «русская» закончилась. Я добрел до ближайшей парикмахерской и попросил побрить меня наголо. Молоденькая парикмахерша удивилась, но перечить не стала. Я видел краем глаза, как ее подружки, хихикая, снимали на мобильники последние минуты жизни моего ярко-красного ирокеза.

После недельного запоя я позавтракал водой из-под крана и удалил «В Контракте» свою страницу с тремя сотнями непрочитанных сообщений от товарищей по партии. С чего им в голову взбрело, что я должен стать приемником Аркадия и возглавить их «левое крыло»?!
Пора было возвращаться к нормальной жизни, брать на работе аванс и как-то оправдываться за свое недельное исчезновение. Или наоборот – сначала оправдываться, а потом аванс просить. Надо только понять, какое настроение у руководства, а дальше действовать по обстановке.
Коммерческий директор моего издательства, вежливо улыбаясь, сообщил мне надменным тоном:
– Митин, мы больше не нуждаемся в ваших услугах!
Заметив у него на столе портретик Надзорова, я посоветовал ему сделать пластическую операцию, чтобы стать еще больше похожим на кумира, в ответ на что услышал лаконичное «Вон!» и спорить не стал. От осознания провала затеи с авансом голова заболела еще больше.
В ожидании маршрутки я зашел за остановку по малой нужде и увидел, как трое спортивно одетых ребят маргинальной наружности смачно пинают ногами четвертого, а тот, уже, видимо, обессилевший от побоев, вяло обороняется, но не сдается. Я максимально быстро завершил задуманное и, застегивая брюки, крикнул:
– Хорош, втроем-то одного гасить!
Один из троицы оглянулся и дерзко ответил:
– Пошел на х…, Кузьмич!
Мне стало крайне неприятно, что меня посылают, да еще и какими-то непонятными отчествами называют. В кармане нашлась опасная бритва – драться-то был не мастер… Я заученно отработанным жестом довольно эффектно продемонстрировал ее противникам, чем полностью переключил их внимание на себя. Парни оказались не из пугливых и перешли в наступление. Их даже не смущали порезы на рукавах и ссадины на руках, которые я довольно ловко наносил им. Один, невысокий, достал из кармана телескопическую дубинку, после чего я понял, что пора валить, и огляделся по сторонам. Валить было некуда – со спины к нам с гиканьем и улюлюканьем неслось еще минимум семеро «спортсменов» с такими же «телескопами» в руках. Вдруг нападавшие на меня ни с того ни с сего бросились наутек прямо через проезжую часть, ловко лавируя между проезжающими мимо машинами.
Часть вновь прибывших погналась за убегающими, а остальные остановились возле бедолаги, за которого я на свою голову «вписался». Его стали приводить в себя одобрительными возгласами и похлопываниями по плечам. На меня никто внимания не обращал, и я хотел было вернуться на остановку, но тут случайно спасенный мной поклонник спортивного стиля одежды отстранил своих приятелей и ринулся ко мне, протягивая широченную, как весло, ладонь. Его разукрашенная физиономия светилась от какого-то непонятного мне по-мальчишески искреннего чувства, и он прошамкал синюшно-пельменными губами:
– Шаша!
– Слава, – ответил я и пожал протянутую руку.
– Пошли ш нами! – предложил мой новый знакомый и легонько хлопнул меня по плечу.
Делать мне было особенно нечего, и я согласился. По дороге я к своему удивлению узнал, что стал очевидцем столкновения двух враждующих околофутбольных группировок и что на спасенного мной, оказывается, напали приезжие. Оставшуюся часть дня мы вместе с Саньком и пацанами из его «фирмы» (тогда я еще не понимал значения этого слова) наперегонки глотали ирландский из маленьких стопочек, запивая пенным напитком и запевая песнями ранее не слыханной мною рок-группы «Бивни». Я был приятно удивлен, что ветеран панк-сцены Сантер из «Юго-Запада», оказывается, не иммигрировал ни в какую Бельгию, а продолжает нести культуру в массы, возглавляя вполне симпатичный проект. К вечеру, разодрав глотки ежеминутными «Оле-оле!», мы осипшими голосами попрощались и крепко обнялись, словно старые друзья. Санек сказал: «Ну, бывай, Бритва!» – так ко мне и прилепилось это прозвище…
Дальше понеслось: «выезды», «проводы», «дерби», естественно, «махачи» с гов…ом[12] и без и еще много всего интересного. По настоянию Санька я стал завсегдатаем секции бокса, которой руководил его старший брат Леха, что уже через небольшое время принесло ощутимые результаты: набрав неплохую физическую форму, я все чаще стал высказываться за fairplay[13] вместо коротких наскоков и перестал бояться вставать в firstline[14].
Среди почетных членов нашей «фирмы» были даже двое улыбчивых парней постарше нас из Белграда, которые несколько раз «вписывались» у Санька, приезжая в Питер. Он тоже мечтал к ним съездить, но мешало отсутствие загранпаспорта. С его слов, Милун и Сречко в свое время, еще будучи подростками, успели повоевать с натовцами. Именно они рассказали мне, какая грозная сила футбольные хулиганы.
Как-то само по себе получилось, что я оказался в «основе» «фирмы», и никому из фирмачей в голову не приходило ассоциировать меня с неофитом «хуллза». Правда, если честно, околофутбольный «движ» мне нравился больше, чем сам этот чужеземный и не совсем понятный для меня вид спорта. К футболу я относился по-прежнему, полностью разделяя точку зрения старика Хоттабыча[15].
В этот замечательный период времени, не без помощи новых друзей, мне удалось устроиться на работу в небольшой магазинчик с нехитрым названием «УльтрасПорт». Ощутимо исправить финансовое положение мое скоромное жалованье не позволило, зато с тех пор я всегда был в «тренде», так как мне предоставлялась неплохая скидка и неограниченный кредит на все продаваемые товары. К тому же новая работа дала мне возможность многократно расширить круг общения и обзавестись массой знакомств.
Именно в «УльтрасПорте» я и встретил девушку своей мечты – Соню. Соня заходила в магазин пару раз: сначала с подружкой – просто посмотреть, потом – уже за покупкой. Она мне сразу понравилась: худенькая блондиночка с глазами цвета флагов нашей «фирмы», тихая и скромная, но умеющая вести себя достойно. Она выделялась на фоне других посетителей магазина женского пола: не скручивала губы в трубку, как гламурное чмо, и не «чекинилась» в примерочной с каждой новой тряпкой, стойко пережила отсутствие своего размера, примеряя, на мой взгляд, очень качественную реплику «Альфы», и на мое предложение примерить что-нибудь другое спокойно ответила:
– Подожду следующей поставки. Ведь в прошлый раз был мой размер… Покажите мне вот эти кроссовки.
Я хотел было заметить, что ее интересует мужская модель, но она, предвосхитив мой вопрос, поинтересовалась:
– У вас какой размер?
– Сорок два с половиной.
– Отлично! Вы не могли бы примерить? Я молодому человеку покупаю… в подарок. У него как раз такой же размер.
Разумеется, «родные» «NB» выбранной ею серии могли оставить равнодушными только человека, не имеющего никакого понятия о настоящей качественной обуви.
Стоили «зачетные тапки» целое состояние – наверное потому, что их шьют в свободное от светских раутов время, как минимум, члены британской королевской семьи. Покупательница не производила впечатления дочери нефтяного магната, видать, крепко любила своего «болелу». Девушке не хватило наличных, что дало мне возможность узнать, как ее зовут, когда я проводил кредитную карточку через терминал.