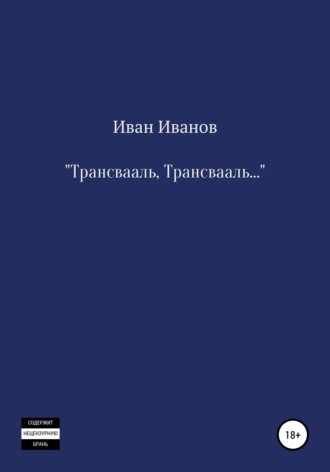 полная версия
полная версияТрансвааль, Трансвааль
– А куда ж она, по-твоему, должна была деться? – посетовал Гриня Мельник. – Мало ль наших писем разыскивают нас по промыслам. В порту сунут письмо не в тот мешок, а потом рыбарь – майся в море.
Матрос Димка-Цыган оказался единственным, кто не получил из последней большой почты ни одного письма, и всем стало сразу как-то радостно за своего кореша, что у него оказалось «все в порядке»!
Сам же Димка вряд ли видел свою возлюбленную. Не до того ему сейчас было. Красуясь своей кучеряво-смолистой бородой-путанкой перед нарядной толпой на пирсе, он стоял на самом носу судна с выброской в руках, как молодой бог, вознамерившийся заарканить бегущее белое облако над головой.
И опять послышался шепот:
– Шеф, – это кто-то уже обращался к коку, который тоже выбрал минуту выбежать на палубу, – не видишь, тебе машет твоя Кнопка?!
И верно, Иона Веснин только сейчас увидел свою жену. Все шарил взглядом по краям толпы, а она, маленькая, ладная выставилась в самом центре на переднем плане.
– Ну и крохотуля у нашего шефа! – изумился электрик Веня.
Над ним, ерничая, тихо посмеялся Гриня Мельник:
– За большой-то пень, знаешь, зачем ходют? – И сделал внушение. – Помни, молодой, маленький пирожок – никогда не приестся.
И другие не утерпели, чтобы не «вложить» ума молодому:
– Надо полагать, – не торопясь, степенно излагал акустик Вася-Младенец, лыбясь своей безвинной детской улыбочкой. – У нашего шефа в жизни все вышло по-французски: вздумает искать жену в кровати, а находит ее в складках мятой простыни.
– Жена – большая или маленькая, красивая или уродина – все от Бога, братцы, – глубокомысленно, с хитринкой вставил дриф Николай Оя. – Другое дело подарочек от сатаны – любовница. Вот тут, чтобы все было при ней – и рост, и фигура-«гитара», и смазливость.
– Надо полагать, – подыгрывая акустику и дрифу, хохотнул Гриня Мельник. – Сатана успел-таки снять сливки со смазливости-то. На тебе, боже, что мне не гоже, – хлебай снятое молочко, а то еще и разведенное водицей.
И все эти перешептывания, хихиканья, вздохи, ахи на палубе и на верхнем мостике, как обухом, перешибил властным басом седой капитан:
– Выброску!
И вот уже Димка-Цыган, будто ковбой, бросающий лассо, сильно и красиво кидает с носа судна тонкий капроновый фал с вплетенным свинцовым грузиком на конце. На пирсе выброску ловит старый береговой матрос в такой же старой, как и он, капитанской фуражке, но еще ладно сидевшей на седой голове. Он расторопно выбирает за фал, плюхнувший в воду, тяжелый швартовый конец и его «петлю» тут же накидывает на причальную чугунную тумбу. И в этот самый момент, сотрясая нагретый воздух и пугая бранчливых чаек, грянули трубы оркестра. Разнаряженная толпа тоже взорвалась радостными возгласами.
Гриня Мельник тряхнул за плечи стоявшего рядом электрика и, не стыдясь своей душевной слабости, прослезился:
– Венька, паразит ты этакий… Да знаешь ли ты, магнитная твоя душа, может, только ради этой музыки и в море-то я хожу… Человеком себя чувствуешь!
Для дяди Гриши, как он сам уверял всех, это был последний рейс. Отпахал свое Григорий Мельник. Потому-то, видно, и было трудно расставаться ему с морем. Только черта с два, никуда от него ему не деться. Гриня Мельник – вечный моряк, даже и тогда, когда не будет ходить в море.
Не у одного Григория Мельника першило в горле от гремевшей в порту музыки. Ее сейчас слышал и переживал каждый по-своему. Тому же Ионе Веснину она всякий раз, летом ли, зимой ли, напоминала все один и тот же далекий весенний день.
Подкова на счастье
…Было воскресенье. Вот так же щедро, только по-весеннему, светило солнце. Где-то поблизости играла духовая музыка. Только вместо чаек драли глотки брачные грачи. Военные моряки, среди которых был и он, старшина второй статьи Иона Веснин, вместе с ленинградскими парнями и девчатами убирали один из парков на Васильевском острове. И вот, работавшая неподалеку с ним девчушка возьми да и выгреби из-под сиреневого куста – на потеху всем – ржавую подкову.
– Свадьба! Горько! – закричали кругом. И так как девчушка была ближе всех к Веснину, то и посмотрели все на него. Будто он «расковался» на счастье этой пигалице с короткими косичками вразлет.
Потом они разговорились. Девчушка назвалась Алей. И младше-то она оказалась всего лишь ничего… Просто уродилась такой маленькой. Держалась же перед ним независимо. Даже с каким-то вызовом: такая я, мол, бой-девчонка! И без умолку тараторила:
– Из эвакуации нас привезли в Ленинград уже большими! Я уже семилетку кончила! Богатыми – невестами с приданым – приехали! В детдоме нам подарили по новому одеялу и полному комплекту постельного белья. Это было осенью, на второй день нашего приезда праздновали победу над Японией. Мы с подружками побежали на Дворцовую площадь смотреть салют. И там, под огненным дождем, я впервые в жизни танцевала по-взрослому. Правда, только – девчонка с девчонкой. И все равно, это был самый счастливый день, который я помню! – рассказывала она о себе весело.
И тут же перескакивала на другое. И уже с грустью говорила:
– Помню, пришла на свою улицу, а там, где стоял наш дом, – гора битого кирпича, заросшего крапивой: Как это она умудрялась там расти? Вот стою и думаю: «Мамке-то как тяжело лежать там внизу…» Мы жили на первом этаже. Хочу заплакать, а слез нету…
И она опять спохватывается, что рассказывает не по порядку:
– Ой, а как мы в сорок первом уплывали от войны… Сперва нас, детей, собрали в школе… Додержали там до темноты и потом на машинах вывезли за город, куда-то к Неве, где посадили на деревянные баржи с крышами. А чтобы мы не плакали по нашим мамам, нам сказали, что мы поплывем куда-то в пионерский лагерь. Только он очень далеко, а как только отдохнем там – и война кончится.
Спать улеглись прямо на солому, разбросанную по всему дну баржи. Это нам, перво-четырехклашкам, всем здорово понравилось. Прижались друг к дружке, прислушиваемся к всплескам воды, а сами – все шепчемся о том, как будем отдыхать без наших мам и пап…
В том далеком пионерском лагере – в Татарии мы пробыли до осени сорок пятого. Но туда надо было еще доплыть, доехать…
Девчонка помрачнела и тяжко вздохнула, словно раздумывая: стоит ли ворошить пережитое? И, поборов себя, продолжила дрогнувшим голосом:
– Уже на другое утро, когда мы еще спали, перед Волховстроем, нас обстреляли «мессеры». Видно, немецкие летчики подумали, что куда-то перевозят красноармейцев. И сразу же из пробитого пулями дна баржи зафырчала вода, как из открытых водопроводных кранов. Одна воспитательница с перепугу схватила свои узлы с пожитками и побежала к люку-выходу: не разбирая, куда ступить, по нам, детям. Некоторые из нас, кто был убит, молчали, остальные – раненые и живые – в голос кричали и каждый звал свою маму… И мы, наверное, утонули бы, но на буксире догадались причалить к берегу, где мы сели на мель. И нас тут же вынесли на руках бойцы, идущие колонной к фронту, А дальше, что было – этого невозможно все в точности рассказать. Это можно только пережить. Кому суждено было пережить.
Аля доверительно посмотрела в лицо своему «расковавшемуся суженому»:
– Может, не стоит этого ворошить? – Моряк, не найдясь, что ответит, смолчал. И она поставила перед ним условие: – Тогда отойдем в сторону. Я не хочу, чтоб девчонки видели, что я женихаюсь с матросами. – И отбрила: – Чихать я хотела на вас, бабников!
Они отошли грести листья в дальний угол парка. По дороге Аля, украдкой смахнув набежавшие слезы с глаз, пригрозила:
– Если целоваться полезешь, сразу получишь по мордасам. Это у нас, детдомовских девочек, не заржавеет! И не перебивай, этого я не терплю!
«Гляди-ка, какие бывают на свете – наяные восогрызки?!» – посмеялся про себя словами своей бабки Груши – покойницы, мастерицы на меткое словцо, хваткий, всем морякам моряк, но с условиям бой-девчонки, видно, согласился. А та, как ни в чем не бывало, продолжила свою прерванную исповедь:
– От волховских береговых берез, в реве недоенных коров, нас понесла в глубь страны уже беженская река. Сперва мы ехали, будто на отлетающих «журавлях», на немазанных скрипучих телегах. Потом где-то в лесном тупике нас пересадили в «телятники», где бойцы-старики на крышах вагонов рисовали красные кресты. Сказали, что нас теперь не будут обстреливать фашисты. И накаркали на нашу голову. На второй день, на станции Малая-Вишера они разбабахали наш поезд, думая, что в тыл везут раненых бойцов. И на этот раз нам повезло. Мы ждали паровоз и в эти часы ходили в баню. Нас срочно разместили в школе, где жили несколько дней. Потом снова посадили, хотя и в старые, но уже в пассажирские вагоны. И поехали дальше – на восход солнца. И ехали долго, все с какими-то приключениями: то паровоз сломался, то уголь кончился.
В конце сентября мы оказались в Рыбинске. Наши воспитатели думали, что зимовать останемся. Но не тут-то было. После каких-то недельных выяснений нас пересадили на дебаркадер, старую плавучую двухэтажную пристань, и мы поплыли на буксире – вниз по матушке, по Волге. Сколько разных больших городов проплыли: Ярославль, Кострома, Горький, Чебоксары, Казань. А мы все путешествуем на нашем растрепанном дебаркадере: где-то ночью проходя под мостом нам начисто снесло крышу. И это было во время дождей. Господи, чего ж только не натерпелись…
Так уж подгадалось, утром 7 ноября мы повернули на Каму. По широкой реке уже плыли льдины. Как нам сказали: «Письма с Уральских гор». Буксир отказался дальше следовать. Причалил наш дебаркадер к заснеженному берегу какого-то городка, а сам прощально трубя, ушел куда-то в затон на зимовку.
Хотелось нам побегать по земле, поиграть в снежки, но были почти раздетые и босые: в раздрызганных сандалях и туфельках. И одежда на нас – летняя. Ведь из дома-то уезжали в «пионерский лагерь». Зато, ради праздника, дали по печенине. Но прежде попросили, чтоб мы сходили на палубу, вытрясли рубахи и платья от вшей. Мы, девчонки-дуры, выскакивали на мороз. Мальчишки же отказались, сказали: «Все равно дадут!»
Наша главная воспитательница, красивая Римма Петровна, ходила в город, куда-то звонить.
К вечеру к нам подошел, громко трубя белый двухколесный пароход «Александр Пархоменко», словно спасая «челюскинцев». Девки-матросы навели сходни на наш дебаркадер и нам позволили перебраться в их теплый и светлый дом на водных колесах, где накормили ужином, напоили чаем и уложили спать в каютах на трехъярусных койках. Внизу «маленькие» – первоклашки, девчонки на среднем ярусе расположились, мальчишки полезли на верхотуру. Но до коек мы добрались не сразу. Прежде нас по очереди пропустили через санпропускник, пока мы мылись в душе, одежды и все пожитки наши прожаривались в газовых «душегубках».
(Оказалось, что этот белый пароход, только тем и занимался, что развозил по рекам бедных людей – Великой Беженской страны…)
Утром же проснулись от «оглушительной», до боли в ушах, тишины. Белый пароход, потихоньку пыхтя, смиренно стоял рядом с обрывистым берегом на расстоянии поставленных сходен. В обед объявили, что за нами скоро приедут, а пароход – вмерз в лед. И верно, вскоре мы увидели через пароходные круглые окошечки много санных упряжек на берегу под высоченными соснами. Около розвальней прохаживались усатые старики в шубах и смешных шапках – ушами назад. На спины мохноногих лошадей были накинуты тулупы.
На пароходе поднялась суматоха – начались сборы, хотя собирать нам было решительно нечего. Хоть разрешили укрыться пароходными байковыми одеялами. Но только до саней! И группами по пятеро нас стали выводить на мороз. Наш возница с густым инеем на вислых усах, взбивая сено в широких розвальнях, увидев нас, испуганно зацокал языком:
– …бистро ложись на сено – мороз кусай нос!
Перед тем, как нам упасть в розвальни, провожавшая девка-матрос успела сорвать с наших плеч пароходные одеяла. А тут еще и старик, цокая, сердито кричит:
– …бистро разувайсь – мороз кусай ноги! – И тут же, стащив со спины лошади нагретый огромный тулуп, накрыл нас, словно крышей, сорванной мостом с нашего дебаркадера.
Мы – ни живы, ни мертвы – прижимались друг к другу, но не плачем. Видно с перепугу было не догадаться жаловаться кому-то. А может, оттого и не плакали, что некому было жаловаться. А тут еще слышим голос старика, как из подземелья:
– Матур кэзлар (не зная, что бы это значит, но как-то догадываемся, что про нас девчонок: «горемыки или красавицы»), не боись, старый бабай шшупать щас будет!
Мы не успели еще испугаться, как отворотился край тулупа и к нам уже тянутся руки старика… А в них – лепешки… Да не простые – теплые! Видно, вынутые из-за пазухи:
– Ешьте, грейтесь, да поехали в Мамадыш… К моей аби Альфия поедем… Она байню для вас топит… Чай будем пить – с малиной и медом… И на печке спать уложит, – слышался из темноты голос.
Казалось, что мы его, дедулю с «обмороженными» усами, видим через тулуп, который кружил вокруг розвальней, подтыкая сено, чтобы не поддувало.
Но вот заскрипели полозья, поехали! И тут послышался над нашими головами стук кнутовища по тулупу:
– Эй вы, матур кэзлар, а теперь пойте песни. Да громче, чтоб старый бабай знал, что вы живы!
А мы, уже немного согревшись от тулупа и теплых лепешек и рады стараться хоть чем-то услужить «дедулочке», запели довоенную любимую песню:
Расцветали яблони и груши,Поплыли туманы над рекой.Выходила на берег Катюша,На высокой берег на крутой.Да еще и припев придумали:
Мамадыш, наш Мамадыш,Мама, мама, Мамадыш!– Корошо поете, матур кэзлар! – как бы подпевал нам наш возница, добрый бабай. – В Мамадыш, к Альфии едем… Но-о, родные, но-о!..
Аля, делая вид, что устала, оперлась, сбочась, на грабловище и, как бы между прочим, глубоко вздохнула:
– Такой и втемяшилась в меня – моя Татария: вкусными лепешками и теплым тулупом, пахнущим лошадями и луком. Этих запахов я не знала, живя в Ленинграде. – Она настороженно уставилась на своего прилежного слушателя и в упор спросила: – А ты, случайно, не смеешься надо мной?
– С чего бы это!?
– Да, хотя б с того, что я еще никому не рассказывала о себе так подробно… – И тут же вопрос в упор: – А о чем ты сейчас думаешь?
– О том, какое красивое слово Мамадыш! Чем-то похожее на тебя. Я буду называть тебя так: Мамадыш!
– Еще чего не хватало! – возмутилась Аля, сердито сдувая углом рта темнорусый кудряшек, сползший на глаза. – Там, где я пережидала войну, никому и в голову не приходило так называть девчонок. Это всего лишь маленький городок – деревня с резными синими наличниками.
– Вот и я говорю про то: мал золотник да дорог! – трепался моряк.
– Глупости все! – отмахнулась Аля. – Я лучше расскажу, как мы ходили на молокозавод за обратом для детдома… Это было не близко. Четыре километра, но от желающих не было отбоя. Там нам давали вволю пить сыворотку, которую сливали в чаны для поросят на ферме. Из своих сверстников я была меньше всех ростом, поэтому меня никто не хотел брать себе в пару нести ведро.
Однажды, уже весной сорок второго, я все-таки напросилась – взяли и меня. И вот идем уже назад, с сыворотки попеваем песенки и на нас, на запах обрата, напали голодные свиньи. Как телки высокие, хвостатые и с очень длинными рылами. Таких страшил я потом нигде больше не видела, даже в кино. Я испугалась, выпустила из рук дужку ведра и весь обрат у нас вылился на землю. За эту провинность потом меня долго не посылали на молокозавод…
По окончании воскресника балтиец отпросился у своего старшо́го их команды – в «самоволку» на недолго. Он решил проводить девчонку. Нет он не влюбился в нее. Его просто роднило с ней свое военное сиротство в зоне выжженной земли Волховского фронта.
В общежитии у Калинкиного моста Алю ждала новость. Ее объявила сама комендантша, видно, из довоенных колхозных бригадирш:
– Девонька, днесь, очистили тебя тут какие-то лихоимцы.
– Как очистили? – еще не совсем понимая, переспросила Аля.
– Да так, очистили – и вся недолга.
– И приданное детдома? – наконец ужаснулась пострадавшая.
– Не говори, девонька, ободрали, как липку. Вот какая вышла у нас кулемесь, пока ты гребла «за так» прошлогоднюю траву.
Аля, видно, поверив в случившееся, горько зашептала:
– Вот тебе и подкова – на счастье!?
Балтийца удивило, что девчонка не заплакала от большой для нее утраты. Он тоже немало перевидел всякого лиха в прифронтовой деревне, живя с бабкой в сырой землянке. Тоже, помнится, не часто хныкал, когда приходилось туго… Но тогда была война. К тому же он был мальчишкой.
«А сейчас-то, – думал он, – сейчас-то уже мирное время… И неможет быть такого, чтобы девчонка не заплакала по украденному приданному, которое хранила непочатым в самодельном чемодане…»
Бравый флотский почувствовал, что в нем что-то сдвинулось. Он схватил девчонку за плечи и встряхнул, словно хотел выплеснуть из нее слезы. А когда и это не помогло, он вдруг заговорил о том, о чем – еще минутой назад – и не помышлял:
– Ты хоть догадываешься, зачем я отпросился у своего мичмана? Так вот знай, подкову-то ты нашла – не зря! Я поехал с тобой, чтоб сказать: женюсь на тебе, Алька!
Она подняла свои большие синие глаза, внимательно, даже зло, посмотрела на разошедшего моряка и с беспощадностью отбрила:
– Такие жалостливые красавцы не женятся на детдомовских невестах!
За такую, подобную дерзость балтиец, наверняка, дал бы шлепка бой-девчонке, будь она, хотя б чуток повыше ростом. Но и совсем безнаказанным нельзя было оставить это. Моряк в сердцах сграбастал девчонку, на этот раз ухватив ладонями за ее стрекозиную талию – и, не соизмерив своей силы, поднял строптивицу над головой с легкостью бутафорской штанги. Да еще и покрутил ею, для острастки, туда-сюда, чем несказанно восхитил ее подружек:
– Ой, интересно-то как…
– Как в балете!
Когда же он поставил на ноги дерзкую девчушку, то увидел, что и она умеет плакать:
– А ты не свистишь, что ты?.. – и не осмелившись сказать вслух заветное – для каждой девчонки – слово, Аля всхлипнула.
– Если сейчас еще такое скажешь, ей-ей, отшлепаю! – пригрозил решительно настроенный балтиец.
И бой-девчонка, видно, враз поняла, что ладный моряк не «свистит». По-детски размазывая по щекам искренние слезы, она рассмеялась, вытаскивая из-за пазухи свою бесценную ржавую находку, выгребленную ею из-под сиреневого куста Василеостровского парка:
– А подкову-то я не выкинула.
– Вот и вся любовь! – только и всего, что нашелся сказать Иона, обнимая и целуя при свидетелях свою нежданно-негаданную невесту на зависть ее подружек, блокадных детдомовок.
– Ой, матушки, ну, как в кино! – всплеснула руками растроганная комендантша. И заглаживая свою вину по недогляду в своем хлопотном хозяйстве, изрекла истину для своих подопечных молодых постояльцев: – В жизни-то, девоньки, всегда так и бывает: никогда не знаешь, где что потеряешь и где, что найдешь…
Музыка, которую можно только заработать…
Над портом, в безоблачном небе, кричали чайки, потревоженные звонкой медью, а коку Иону Веснину, стоявшему среди своих товарищей на палубе сейнера, все слышался тот же далекий грай весенних грачей. Перед его глазами была Аля, маленькая и ладная, точь-в-точь, как и та прежняя бой-девчонка с подковой в руке… Она стояла в самом центре празднично разодетой толпы на пирсе и махала ему цветами.
Судно медленно надвигалось на несокрушимый бетонный пирс. Казалось, вот-вот произойдет что-то непоправимое. Но стоило взглянуть на седого капитана с волевым лицом, отдающего с крыла рубки короткие команды, и на матроса-хвата Димку-Цыгана, быстро выбиравшего слабину швартового конца, и чувство «непоправимости» тут же улетучивалось.
– Закрепить швартов! – отрывисто звучит голос капитана.
– Есть закрепить швартов! – четко отвечает матрос и сноровисто, (оттого и красиво!) несколькими перевитыми «восьмерками» намертво крепит на парных кнехтах пеньковый конец.
Судно, теперь уже отрабатывая назад, походит на заарканенного дикого зверя. Оно еще брыкается, но чувствуя, что деться ему некуда, смиряясь, становятся послушным и медленно прибивается кормой к бетонной стенке. Вытянутый в струнку, новый пеньковый конец потрескивая звенит, волосатится, источая редкий сизый дымок. Сейчас лучше отойти в сторону – береженого и Бог бережет. Встал поодаль от брашпиля, по-моряцки широко расставив ноги, а затем еще и подбоченился, что получилось у него приглядно. И лишь только тогда он с каким-то превосходством соизволил себе взглянуть на береговую толпу. И сразу встретился глазами с молодой белокурой особой, от чего в его смолистой бороде, будто молния, сверкнула искристая улыбка.
Пес Курат, не дожидаясь, когда бородачи наведут с борта на пирс трап, первым спрыгнул на долгожданную землю, и тут же, на бетонных плитах повалялся на спине. Конечно, на травке было бы лучше, но что делать, если ее не было здесь… И только после этого обязательного ритуала при встрече с родной землей, он со звонким лаем кинулся к гостевой толпе. И ни к кому-то, а к жене кока. Непостижимо! Оказывается Аля жила в нем своими запахами через его кормильца, на что еще ревниво заметила модная капитанша, обойденная вниманием пароходной собачки:
– Теперь ясно, кто его лучше всех привечал на пароходе…
Зашипела судовая рация, известив:
– Команде, построиться на палубе для торжественной встречи! – Это была последняя команда капитана на судне в долгом и многотрудном рейсе.
Бисерно просыпалась барабанная дробь заздравно-приветственного туша, под шумок которого послышался веселый, взахлеб, хохоток третьего штурмана-сердцееда, стоявшего на палубе в свободном построении:
– Гляди-ка, гляди, как гусарочки-то, барабанщицы-то… сучат своими точеными ножками. Аж искры летят с их румяных колешек!
– Ну, Родион, однако ж и юбочник ты! – с осуждением пристыдил штурмана старый матрос Мельник. – Тебе только б и забот-делов, как неустанно лицезреть на девичьи колешки. Будто на них узоры какие нарисованы? Ты б лучше вслухался в музыку. Такую, брат, не закажешь в ресторане, хоть карман тресни по швам от шальных деньжищ. Ее можно только заработать собственной хребтиной.
Третий штурман хотел было сострить, но на него зашикали, так как полились – через край – заздравные речи берегового начальства… И каждый дядя с пылающим здоровьем загривком старался похвалить их, какие они, мол, молодцы! Усатая тетя от женсовета назвала их еще и «удальцами». А «молодцы-удальцы», обветренные и просоленные на далеких широтах и меридианах, только делали вид, что внемлют слащавым здравицам о себе. На самом же деле они стояли, как оглушенные, ничего не слыша и не понимая, лишь ждали одного: поскорее бы закруглялась эта затянувшаяся краснобайская канитель. Им сейчас с нетерпением хотелось одного – обнять своих родных, близких и друзей.
Потом начались награды и дарение цветов, а это было уже веселее… Будто бы откуда-то издалека донесшую, услышал свою фамилию и судовой кок, чему не мало удивился вслух:
– И мне!?
– И вам, Иона Гаврилыч! – зычно подтвердил хорошо поставленным голосом руководитель «Рыбкиной» конторы. – За ваше чуткое бережение команды…
– Браво, браво! – дружно подхватила разнаряженная толпа, сбившаяся перед трапом.
Если о ком-то из команды и знают много дома из писем мореманов, то это о коке. Кормильце их великовозрастных чад, мужей, пап, братьев, которые в каждом письме к родичам вспоминали о нем, вынося ему выверенный через свое чувствительное чрево вердикт в двух полярных ипостасях: «плохой или «хороший».
А перед виновником торжественной минуты уже предстала в ярком национальном наряде белокурая молодая дева, будто сама мисс Эстония, преподнеся ему – в низком поклоне – на тарелочке с голубой каемкой конверт с размашистой, наискось, надписью: «Вскрыть дома!» И он еще про себя отметил: «Видно, чтобы не все радости сразу».
И вот, стоя на палубе с охапкой цветов, обалдевший рыбарь, чтобы не разворотило его изнутри от переизбытка положительных эмоций, взбрыкнул дурашливым жеребенком и – в два прыжка – оказался на пирсе. А затем, в том же обалдении, предстал перед барабанщицами-гусарочками, продолжавших уже в честь его сеять бисер в торжественном туше. И сами с прикусами нижних губ усмешливо наблюдали зачокнутым от телячьих радостеймореманом в ожидании: что дальше будет?
А «чокнутый» рыбарь и на самом деле не знал, как ему было поступить? Хотел – от души! – одарить их цветами и не знал, как это сделать, если руки барабанщиц были заняты играющими палочками. И тут на него накатило блажью… Всю охапку дарственных цветов, заработанных в таких тяжких трудах, будто отпетый картежник, как новую колоду, он распустил к ногамтанцующих.
– Браво! – вторично взорвалась разнаряженная толпа встречающих.

