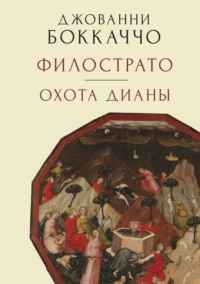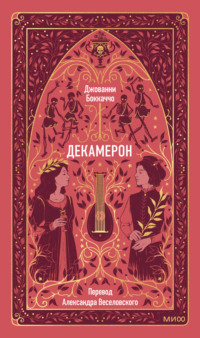полная версия
полная версияДекамерон. Пир во время чумы

Новелла третья

Под видом исповеди и чистосердечного признания одна дама, влюбленная в молодого человека, побуждает некоего почтенного монаха, не догадывавшегося о том, устроить так, что ее желание возымело полное удовлетворение.
Уже смолкла Пампинея, и смелость и благоразумие конюха восхвалялись многими из присутствовавших, равно как и благоразумие короля, когда королева, обратившись к Филомене, велела ей продолжать, вследствие чего та очень мило промолвила следующее:
– Я намерена рассказать вам о проделке, действительно устроенной одной красивой дамой почтенному монаху, проделке, долженствующей тем более понравиться мирянам, что монахи, очень глупые в большинстве случаев, – люди странных нравов и привычек, воображающие себя и выше других, и более сведущими во всяком деле, тогда как они много их ниже и, не умея по низменности духа пробиваться, как другие люди, стремятся, подобно свиньям, туда, где могут чем-нибудь покормиться. Об этой проделке я и расскажу, милые дамы, не для того только, чтобы исполнить данный приказ, а чтобы показать вам, что даже и духовные лица, которым мы, чересчур легковерные, слишком доверяем, могут быть и часто бывают хитро поддеты не только мужчинами, но и некоторыми из нас.
В нашем городе, изобилующем более обманами, чем любовью и верностью, жила немного лет тому назад родовитая дама, одаренная от природы, как немногие, красотой, приятным обхождением, возвышенной душой и тонким умом. Ее имя, равно как и другие, упоминаемые в настоящем рассказе, хотя я их и знаю, я не намерена открыть, потому что еще живы многие из тех, кого это исполнило бы негодованием, тогда как это следует обойти смехом. Итак, женщина эта, зная, что она высокого рода и выдана замуж за ремесленника-ткача, не могла побороть своего негодования, что муж ее ремесленник, ибо полагала, что ни один человек низкого происхождения, как бы богат он ни был, не достоин благородной жены. Видя также, что, несмотря на свое богатство, он годился не на что иное, как только разматывать тальки, сновать холст или спорить с прядильщицей о пряже, она решила никоим образом не разделять его объятий, разве только когда отказ был бы невозможен, а для своего собственного утешения поискать кого-нибудь, кто покажется ей более того достойным, чем ткач. И вот она влюбилась в одного очень достойного молодого человека средних лет, да так, что если днем не видала его, то ночь не могла провести без докуки. Но молодой человек, того не замечая, и не заботился о том, а она, как женщина очень осторожная, не решалась дать ему знать ни через посланную, ни письмом, боясь опасности, могущей приключиться. Приметив, что он часто общался с одним монахом (который хотя был глуп и неотесан, тем не менее, ведя святую жизнь, пользовался почти у всех славой достойного монаха), она решила, что именно он был бы прекрасным посредником между ней и ее любовником. Обдумав, какой ей избрать способ действий, она отправилась в подходящий для того час в церковь, при которой он жил, и, вызвав его, сказала, что, если он на то согласен, она желала бы исповедоваться у него. Монах, увидев ее и приняв ее за благородную даму, охотно выслушал ее, а она сказала ему после исповеди: «Отец мой, я должна прибегнуть к вам за помощью и советом в деле, о котором вы услышите. Мне известно, да я и сама вам о том сказала, что вы знаете и моих родных, и моего мужа, которым я любима более жизни, и нет той вещи, какую я не пожелала бы, которую он, как человек богатейший и могущий то сделать, не доставил бы мне немедленно; почему я люблю его больше себя, и если бы я не то чтобы совершила, но даже подумала о чем-либо противном его чести и жизни, то ни одна дурная женщина не была бы так достойна сожаления, как я. В настоящее время некто, чье имя, сказать по правде, мне неизвестно, но, как кажется, человек состоятельный и, коли не ошибаюсь, посещающий вас часто, красивый, высокий ростом, обыкновенно очень прилично одетый в темное платье, не зная, быть может, намерений, какие я питаю, чуть не ведет против меня осаду: я не могу показаться ни у дверей, ни у окна, ни выйти из дома, чтобы он тотчас же не явился передо мной; удивляюсь, как он еще не здесь; все это меня печалит очень, потому что подобный образ действия часто без вины навлекает хулу на честных женщин. Порой мне приходило в голову передать ему это через моих братьев, но потом я одумывалась, зная, что мужчины передают иногда поручения таким образом, что ответы последуют дурные, отчего происходит спор, а от слов доходит и до дела; потому, дабы из этого не вышло зла и шума, я молчала, решив передать все это скорее всего вам, чем кому другому, как потому, что, кажется, вы ему друг, так и потому, что вам подобает выговаривать за такие дела не только друзьям, но и посторонним. Вот почему я прошу вас, ради самого Бога, сделать ему за это выговор и попросить не держать себя более таким образом. Довольно найдется других женщин, может быть, склонных к таким делам, и им понравится, что он глядит на них и ухаживает за ними, тогда как мне, не имеющей в душе ни малейшего расположения к подобному, это только страшно докучает». Проговорив это, готовая, казалось, заплакать, она опустила голову. Святой отец понял тотчас, что она говорила о том, кого действительно разумела, и, много одобрив даму за ее добрые намерения, твердо уверенный в том, что сказанное ею справедливо, пообещал подействовать таким образом, что со стороны того человека ей не будет более неприятностей. Зная, что она очень богатая, он стал восхвалять дела милосердия и милостыни, сообщив ей о своих нуждах. На это та сказала: «Прошу вас о том, Бога ради, и если бы он стал это отрицать, скажите ему прямо, что я сама все рассказала и пожаловалась вам». Затем, отбыв исповедь и получив отпущение, она вспомнила наставления, данные ей монахом о делах благотворения, незаметно положив ему в руку денег, попросила отслужить заупокойные обедни по ее усопшим и, встав с колен, вернулась домой.
Немного времени спустя пришел, по обыкновению, к святому отцу молодой человек; поговорив с ним сначала о том и о другом, монах отвел его в сторону и в очень мягких формах стал журить его за то ухаживание и влюбленные взгляды, которыми тот, по его мнению, преследовал даму, как она дала ему понять. Достойный человек изумился, так как никогда не заглядывался на нее и лишь изредка проходил мимо ее дома, и начал было оправдываться. Но монах, не дав ему сказать ни слова, возразил: «Не притворяйся удивленным и не теряй слов на отрицание, потому что ты этого не можешь. Я узнал все это не от соседей: она сама, сильно жалуясь на тебя, рассказала мне все, и хотя вообще эти глупости тебе более не к лицу, скажу тебе о ней, что если я когда-либо видел женщину, которой были бы противны эти дурачества, то это именно она; потому ради твоей чести и для ее успокоения прошу тебя прекратить это, оставив ее в покое». Молодой человек, догадливый более монаха, понял тотчас же остроумие дамы и, представившись несколько пристыженным, сказал, что постарается в будущем не путаться более в это дело, и, простившись с монахом, пошел прямо к дому дамы, всегда стоявшей настороже у маленького окошечка, чтобы поглядеть на него, когда он пройдет. Увидя, что он идет, она показала ему себя такой веселой и приветливой, что он достаточно хорошо мог уразуметь, как верно он понял слова монаха, и, начиная с того дня, с большой осмотрительностью, к своему удовольствию и вящему восторгу и утешению дамы, притворяясь, будто причиной тому иные дела, продолжал ходить по той же улице.
По некотором времени, когда дама заметила, что она нравится ему так же, как он ей, желая еще более увлечь его и уверить в любви, которую к нему питала, выбрав время и место, она снова пошла к святому отцу и, сев в церкви у его ног, принялась плакать. Монах, видя это, спросил ее сострадательно, что у нее нового. Дама ответила: «Отец мой, те новости, с которыми я пришла, не иные, как о том же проклятом Богом вашем друге, на которого я жаловалась вам позавчера; я думаю, он родился на мое великое мучение и для того, чтобы учинить мне нечто, от чего я никогда не буду радостна и никогда более не осмелюсь припасть к вашим стопам». – «Как, – возразил монах, – разве он не перестал надоедать тебе?» – «Конечно нет, – ответила она, – напротив, с тех пор как я пожаловалась вам на то, как бы назло, может быть, рассердившись, что я вам на него пожаловалась, он на каждый раз, который проходил прежде, проходит теперь по крайней мере семь. И слава бы Богу, если бы он удовольствовался только прогулкой мимо и взглядами, но он стал так смел и дерзок, что не далее как вчера подослал мне в дом женщину с посылами и глупостями и, точно у меня нет кошельков и поясов, прислал мне и кошелек и пояс, что я нашла и нахожу столь оскорбительным, что думаю, если бы не боязнь греха, а затем и любовь к вам, я была бы способна взбеситься; но я воздержалась и не захотела ни делать, ни сказать ничего, не сообщив вам о том наперед. Кроме того, когда я уже возвратила и кошелек и пояс той женщине, которая их принесла, дабы она отдала их ему обратно, и грубо отпустила ее, боясь, чтобы она не оставила всего при себе, а ему не сказала, что я все приняла, – как, слышно, они иногда делают, – я вернула ее и, полная негодования, взяла у нее из рук вещи, которые и принесла вам, чтобы вы ему их возвратили, а ему сказали, что я не нуждаюсь в его подарках, потому что благодаря Богу и моему мужу у меня столько кошельков и поясов, что я могла бы утопить его в них. Затем, с вашего позволения, как отца, если он не отстанет от этого, я расскажу все моему мужу и моим братьям, и пусть будет, что будет; ибо мне более по сердцу его посрамление, если уж он должен его претерпеть, чем мне получить хулу из-за него: не так ли, отец мой?» Проговорив это и не переставая сильно плакать, она вынула из-под своего платья прекрасный и богатый кошелек с нарядным, дорогим пояском и бросила их на колени монаха, который, безусловно веря всему, что говорила дама, страшно взволнованный, взял их и сказал: «Дочь моя, что ты печалишься об этом, я нимало не удивляюсь и не могу порицать тебя за это, но много хвалю за то, что во всем этом ты следуешь моему совету. Я выговаривал ему третьего дня, но он плохо сдержал то, что мне обещал, вследствие чего как за это, так и за то, что он наделал нового, я хочу так взмылить ему голову, что он не будет более приставать к тебе; ты же, да благословит тебя Бог, не поддавайся так гневу, чтобы рассказать о том кому-нибудь из твоих, как бы ему не последовало от того много зла. Не сомневайся, чтобы когда-либо могла выйти от того хула на тебя, ибо я буду всегда как перед Богом, так и перед людьми твердым свидетелем твоей честности».
Дама притворилась несколько утешенной и, оставив этот разговор, будучи знакома с жадностью как его, так и других монахов, сказала ему: «Отец мой, в последние ночи мне являлись мои родные, и, кажется мне, они в страшных мучениях и ни о чем так не просят, как о милостыне, в особенности моя мать, которая представилась мне такой опечаленной и несчастной, что жаль было глядеть на нее. Думается мне, она страшно огорчена, видя мои напасти с этим врагом Господа, почему я хотела бы, чтобы вы отслужили за упокой их душ сорок обеден св. Григория, с вашими молитвами, дабы Господь избавил их от огня карающего». Сказав это, она положила ему в руку флорин. Святой отец с радостью взял его и, добрыми словами и многими примерами укрепив ее в благочестии и напутствуя благословением, отпустил ее.
После ухода дамы, не замечая, что его провели, монах послал за своим другом, который, придя и видя его взбешенным, тотчас же догадался, что у него есть вести о даме, и ждал, что скажет монах. Тот, повторив уже ранее сказанное и снова обратившись к нему с оскорбительными и гневными речами, стал порицать его за то, что, по рассказам дамы, он проделал. Молодой человек, еще не понимавший, куда клонит дело монах, довольно слабо отрицал посылку кошелька и пояса, дабы не отнять у монаха уверенности, на случай, если бы она внушена была ему дамой. Но монах, страшно рассерженный, сказал: «Как можешь ты отрицать это, дрянной человек? Вот они, она сама, плача, принесла их мне; посмотри, не узнаешь ли их?» Молодой человек, притворившись пристыженным, сказал: «Ну да, я их узнаю; каюсь вам, что поступил дурно, и клянусь, видя такое ее настроение, что никогда более вы не услышите об этом ни слова». И долго еще шли разговоры, пока, наконец, монах – баранья голова – не отдал другу своему кошелек и пояс и после многих наставлений и просьб его не заниматься более такими делами отпустил, когда тот это пообещал. Молодой человек, сильно обрадованный как уверенностью, которую, казалось, он получил в любви дамы, так и прекрасным подарком, лишь только ушел от монаха, тотчас же направился туда, где осторожно показал своей даме, что и та и другая вещь – у него, чем та была очень довольна, в особенности же тем, что, как ей казалось, ее замысел удавался все более и более. Когда она ничего так не ждала для завершения дела, как чтобы муж ее куда-нибудь уехал, случилось, что немного времени спустя ему надо было по какому-то поводу отправиться в Геную. Когда утром он сел на лошадь и уехал, дама тотчас же пошла к святому отцу и после многих жалоб со слезами сказала ему: «Отец мой, теперь скажу вам откровенно, что более терпеть я не могу, но так как третьего дня я вам пообещала не делать ничего, о чем бы не поведала вам наперед, я пришла оправдаться перед вами; а дабы вы поверили, что я имею причины и плакать и жаловаться, я хочу рассказать вам, что ваш друг, чистый дьявол из ада, сделал со мною сегодня незадолго до заутрени. Не знаю, какая надежда подсказала ему, что муж мой уехал вчера утром в Геную, и вот сегодня, в указанную мною пору, он вошел в мой сад, взобрался по дереву до окна моей комнаты, которая выходит в сад, и уже открыл окно и хотел войти в комнату, когда я, проснувшись, быстро вскочила и начала кричать, кричала бы еще более, если бы он, не успевший еще войти, не умолил меня о пощаде именем Бога и вашим, сказав мне, кто он; вследствие чего я, выслушав его, из любви к вам умолкла и, голая, как родилась, побежала и захлопнула окно перед его носом, а он, думаю, ушел в недобрый час, ибо более я его не видала. Теперь, хорошо ли это и выносимо ли, – судите сами; что до меня, я не хочу более спускать ему того; уж и без того я из любви к вам спускала ему слишком много».
Услышав это, монах рассвирепел донельзя и не знал, что и сказать, только несколько раз переспросил ее, хорошо ли она узнала, что это был именно он, а не кто другой. На это дама ответила: «Хвала Господу! Неужели я не сумею отличить его от другого! Говорю вам, что это был он, и хотя бы он то и отрицал, не верьте ему». Тогда монах сказал: «Дочь моя, тут ничего другого не скажешь, как только то, что это величайшая наглость и крайне дурной поступок, а ты поступила так, как следовало, то есть выгнав его, что ты и сделала. Но прошу тебя, так как Бог охранил тебя от посрамления, чтобы ты, как уже дважды последовала моему совету, так сделала и на этот раз, то есть, не жалуясь никому из твоих родных, предоставь мне сделать все и посмотреть, не смогу ли я обуздать этого сорвавшегося с цепи дьявола, которого я считал за святого; и если я сумею извлечь его из этого скотства, то хорошо, если же нет, теперь же даю тебе вместе с благословением моим и мое разрешение поступить с ним, как сама сочтешь за наилучшее». – «Пусть будет так, – сказала дама, – на этот раз я не хочу ни гневить вас, ни ослушаться, но постарайтесь, чтоб он стерегся докучать мне более, иначе даю вам слово более не обращаться к вам за этим делом!» И, не прибавив ни слова, как бы рассердившись, она покинула монаха.
Едва успела она выйти из церкви, как явился молодой человек и был окликнут монахом, который, отведя его в сторону, наговорил ему величайших грубостей, которые когда-либо говорили человеку, называя его и подлым, и клятвопреступником, и предателем. Тот, уже два раза испытавший, что именно означала брань монаха, слушая внимательно и уклончивыми ответами стараясь заставить его высказаться, промолвил для начала: «Мессере, к чему этот гнев? Уж не я ли распял Христа?» На что монах ответил: «Каков бесстыжий! Послушайте, что он говорит! И говорит так, как будто прошел уже год или два и за давностью времени он забыл свои дурные дела и подлости. Разве с сегодняшнего утра от заутрени до настоящего часа у тебя уж из ума вон, что ты оскорбил другого? Где был ты сегодня незадолго до рассвета?» Молодой человек ответил: «Не знаю, где я был; быстро же дошла до вас весть». – «Правда, – сказал монах, – весть дошла до меня; я думаю, ты надеялся, что коли мужа нет дома, то почтенная дама тотчас примет тебя в свои объятия! Вот так молодчик, вот так честный человек! Стал ночным бродягой, отворяет сады, лазает по деревьям! Не думаешь ли ты своим приставанием победить святость этой женщины, что лазаешь ночью по деревьям? Ничто на свете ей так не противно, как ты, а ты все пытаешь наново? Не говорю о том, что она во многих случаях тебе это показывала, но хорош же ты в самом деле после моих выговоров! Ну так вот что я тебе скажу: до сих пор не из любви, которую она к тебе питает, а по моим настоятельным просьбам она молчала о том, что ты творил, но более молчать она не станет, я дал ей позволение, если ты снова чем-либо огорчишь ее, поступить, как ей заблагорассудится. Что станешь делать ты, если она все расскажет братьям?» Достаточно поняв все, что было ему нужно, молодой человек, как только лучше мог и умел, успокоил монаха обильными обещаниями и, уйдя от него, на рассвете следующего дня вошел в сад, влез на дерево, найдя окно отпертым, проник в комнату и насколько возможно быстро очутился в объятиях своей дамы, которая с большим вожделением его поджидала и радостно встретила, сказав: «Великое спасибо господину монаху, что так хорошо указал тебе сюда путь». Затем, наслаждаясь взаимно, беседуя и много смеясь над простотой монаха-простофили, издеваясь над замычками, гребнями и чесалками, они наслаждались в большом удовольствии. Уладив свои дела, они устроились так, чтобы не возвращаться более к господину монаху, и провели вместе в таком же веселии много других ночей, каковых я молю сподобить и меня и всех, того желающих.
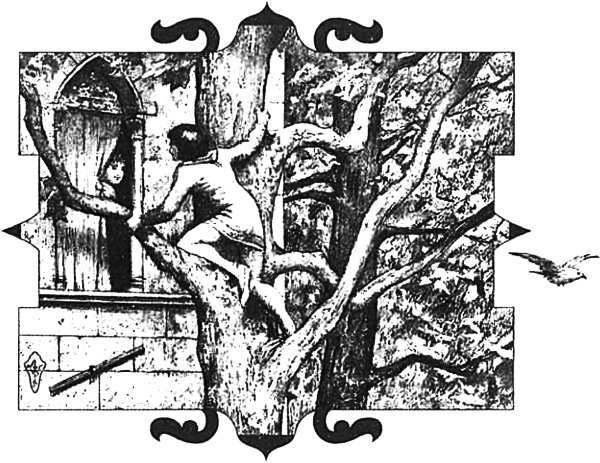
Новелла четвертая
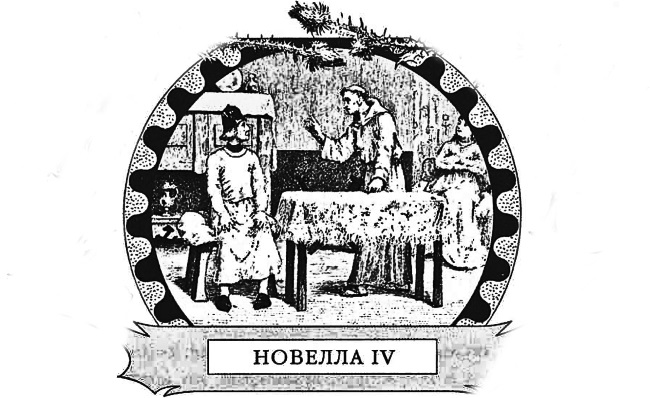
Дон Феличе наставляет брата Пуччо, как стать блаженным, подвергнув себя известному покаянию, что брат Пуччо и исполняет, а дон Феличе тем временем забавляется с его женой.
Когда Филомена, окончив свой рассказ, умолкла, а Дионео в милых выражениях похвалил и остроумие дамы и моление, сказанное под конец Филоменой, королева поглядела, смеясь, на Памфило и сказала: «Теперь, Памфило, продолжай наше удовольствие каким-нибудь веселым рассказом». – «Охотно», – быстро ответил Памфило и начал так:
– Мадонна, много есть людей, которые, стараясь попасть в рай, не замечая того, посылают туда других, что и случилось с одной из наших соседок немного времени тому назад, как вы это и узнаете.
Как мне довелось слышать, вблизи Сан Бранкацио проживал хороший и богатый человек, по имени Пуччо ди Риньери, который впоследствии, совсем предавшись благочестию, стал братом третьего разряда ордена св. Франциска и был наречен братом Пуччо. Следуя своему духовному влечению и не имея иной семьи, кроме жены и прислужницы, потому и не имея надобности промышлять чем-либо, он часто ходил в церковь. Слабоумный и неотесанный, он твердил свой «Отче наш», слушал проповеди, выстаивал обедни, никогда не пропускал случая быть на духовном пении мирян, постился и бичевался, и под рукою говорили, что он принадлежал к секте бичующихся.
Жена его, по имени Изабетта, еще молодая, двадцати восьми – тридцати лет, свежая и красивая, пухленькая, как красное яблочко, по святости мужа, а может быть, и по его старости, очень часто выдерживала более продолжительную диету, чем того желала, и когда ей хотелось спать, а может быть, и позабавиться с ним, он рассказывал ей про жизнь Христа, или проповеди брата Настаджио, или о плаче Магдалины и другие подобные вещи. Вернулся в это время из Парижа один монах, по имени Дон Феличе, принадлежавший к монастырю св. Бранкацио, очень молодой, красивый собою, острого ума и глубоких знаний, с которым тесно сблизился брат Пуччо. И так как он очень хорошо разрешал каждое его сомнение и, кроме того, уразумев его настроение, выказывал себя перед ним святым человеком, то брат Пуччо стал иногда водить его к себе и приглашать то к обеду, то к ужину, смотря как приходилось; также и жена брата Пуччо из любви к мужу сдружилась с ним и охотно его чествовала. Посещая, таким образом, дом брата Пуччо и видя жену его такой свежей и кругленькой, монах догадался, в чем она наиболее ощущала недостаток, и задумал, коли возможно, свалив работу с брата Пуччо, взять ее на себя. Раз и другой косясь на нее довольно плутовато, он таки добился того, что зажег в ее сердце то же вожделение, какое было у него. Заприметив это, монах при первом удобном случае переговорил с ней о своем желании, но, хотя он и нашел ее вполне готовой увенчать дело, способа к тому не находилось, потому что она не решалась сойтись с монахом ни в каком месте на свете, кроме своего дома, а дома это было невозможно, так как брат Пуччо никогда не выезжал из города, что сильно печалило монаха. Долгое время спустя он придумал способ сойтись со своей дамой в ее же доме, не возбуждая подозрения, хотя бы брат Пуччо был также дома. И вот однажды, когда брат Пуччо навестил его, он заговорил с ним так: «Я уже не раз замечал, брат Пуччо, что у тебя одно желание – стать святым, к чему, мне кажется, ты идешь долгим путем, тогда как есть другой, очень короткий, который папа и другие его набольшие прелаты знают, которым и пользуются, но не хотят, чтобы он открыт был другим, потому что духовный чин, живущий более всего подаянием, тотчас был бы разорен, так как миряне не взыскали бы его ни подаянием, ни чем другим. Но так как ты мне друг и много уважил меня, то, если бы я мог быть уверен, что ты никому того пути не откроешь и последуешь по нему, я наставил бы тебя». Брат Пуччо, сгоравший желанием узнать это, прежде всего стал настоятельно просить, чтобы он наставил его, а затем начал клясться, что никогда, разве он сам того пожелает, никому того не скажет, утверждая, что, если он окажется в силах последовать пути, он тотчас же вступит на него. «Так как ты мне обещаешь это, – ответил монах, – то я тебя научу. Ты должен знать, да и святые отцы учат, что кто хочет стать блаженным, должен совершить покаяние, о котором ты услышишь; но пойми меня хорошенько. Я не хочу сказать, что после покаяния ты бы перестал быть грешником, каков ты есть, но выйдет то, что все грехи, совершенные тобой до времени покаяния, очистятся и будут тебе в силу его отпущены, а те, которые ты натворишь потом, не будут вменены в осуждение тебе, а сойдут святой водой, как теперь сходят подлежащие отпущению. Итак, тебе следует главнейше с великим усердием исповедать свои прегрешения, как начнется покаянный искус; затем тебе надлежит начать пост и величайшее воздержание, которое должно продолжаться сорок дней, в которые не только от другой женщины, но следует воздержаться от общения и со своей собственной женой. Кроме того, необходимо иметь в своем доме какое-нибудь место, откуда ты мог бы ночью видеть небо и в час повечерия пойти туда, и чтобы там был стол очень широкий, прилаженный так, чтобы, стоя, ты мог прислониться к нему поясницей и, держа ноги на земле, распростирать руки как бы распятый; если бы ты пожелал поддержать их какими-либо гвоздями, то можешь это сделать. Таким образом, глядя на небо, ты должен стоять, не двигаясь, до утрени. Будь ты грамотный – тебе подобало бы прочесть в это время некоторые молитвы, которые я дал бы тебе, но так как ты не таков, тебе следует триста раз сказать „Отче наш“ и триста раз „Богородицу“ в честь св. Троицы, и, глядя на небо, постоянно держать на памяти Господа, Создателя неба и земли, и страсти Христовы, стоя в таком же положении, в каком был Он на кресте. Затем, когда зазвонят к заутрени, ты можешь, если хочешь, пойти и так, не раздеваясь, броситься на кровать и заснуть, а на следующее утро отправиться в церковь и там простоять по крайней мере три обедни и перечитать пятьдесят раз „Отче наш“ и столько же „Богородицу“; после этого в простоте сердца отбыть кое-какие твои дела, если есть таковые, а затем обедать, а потом пойти к вечерне в церковь и там сказать некоторые молитвы, которые я напишу тебе и без которых обойтись нельзя, а уже затем около повечерия снова начать по-сказанному. Совершая это, как я когда-то сам совершал, надеюсь, что, прежде чем наступит конец покаяния, ты ощутишь чудесное состояние вечного блаженства, если с благочестием все исполнишь». Брат Пуччо тогда ответил: «Это не слишком трудно и не долгое дело и его можно очень хорошо исполнить, почему я и хочу во имя Божие начать с воскресенья».