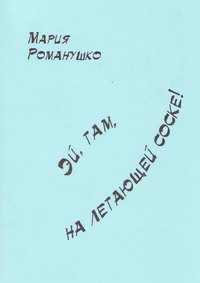Полная версия
Там где всегда ветер… Роман об отрочестве. Вторая редакция
– Ты помнишь дядю Павла?
– Конечно, – говорю я.
Конечно, я помню дядю Павла. Хоть он и приезжал к нам очень давно – ещё когда мы жили в Оренбурге на Полигонной улице.
Дядя Павел – лётчик, друг Фёдора. Он приехал в будний день, мама и Фёдор были на работе, и встречать его на вокзал надо было ехать нам с бабушкой. «Как же мы его узнаем?» – волновались мы с бабушкой. «Вы его сразу узнаете», – уверенно сказал Фёдор.
Так и получилось. Он вышел из вагона – и мы его сразу узнали: дядя Павел был в синей форме лётчика, а из-под синей фуражки выбивался соломенный густой «чуб», как сказала бабушка. Глаза у лётчика были большие, карие, смеющиеся. Он был сказочно красивый! Я побежала ему навстречу с радостным криком:
– Дядя Павел! Дядя Павел! А мы вас встречаем!
– Неужто ты, Ленок? – удивился он, подхватил меня на руки, высоко поднял над головой. Ого, какой он сильный! Я всё-таки уже большая девица, мне скоро шесть лет, а он подхватил меня, как пёрышко, а потом крепко прижал к груди, как будто всю жизнь искал меня и вот, наконец, нашёл. И, не отпуская меня на землю, обнял и поцеловал бабушку, как родную мать. И мы с бабушкой обе цвели, как две розы – мы точно попали в сказку, где нас, вот так, совершенно ни за что, с первого взгляда ЛЮБЯТ! Это было волшебно…
И все дни, что дядя Павел гостил у нас, были волшебными. Была зима, он возил меня в центр города, там стояла большая ёлка, он покупал мне апельсины, которых я до того просто в глаза не видела, и каждый раз мы возвращались домой на такси. Он рассказывал про свою дочку, которой было столько же лет, как и мне, и про маленького сына. Он ехал через Оренбург к месту своей новой службы, а с Фёдором они подружились ещё когда служили в армии, где-то под Ленинградом.
Потом дядя Павел уехал, но навсегда поселился в моём сердце, в самом уютном его уголке – там, где до этого обитал только папа Серёжа.
Там теперь жил и дядя Павел… Я горячо полюбила его, и когда мне было плохо и одиноко, представляла: что вот приедет дядя Павел, подхватит меня на руки, крепко прижмёт к груди – и все неприятности разом кончатся. О дяде Павле я мечтала даже чаще, чем об отце, потому что его приезд был более реальным, ведь дядя Павел и Фёдор дружили, а папа Серёжа и Фёдор, как я догадывалась своим детским умом, дружить никак не могли, и ждать приезда отца было совершенно напрасно…
Мои воспоминания прерывает мамин голос:
– Да разве ты можешь его помнить? Ведь он приезжал очень давно, ты была совсем маленькая.
– Ещё как помню!
– Он больше никогда не приедет к нам, – говорит мама каким-то отчуждённым, далёким, глухим голосом.
– Почему?
– Потому что… дядя Павел погиб.
Меня как будто молотом ударили по голове.
– Как… погиб!?
– Разбился. Его самолёт взорвался, когда шёл на посадку. Это случилось далёко, в Индии… Он там служил последнее время. Посадочная полоса была заминирована…
В моей голове жар и сумятица: какая Индия?! Какая заминированная полоса?! Жуткий, кошмарный сон… Я не понимаю, не верю, не хочу верить, не МОГУ!!!
– Может, это неправда?.. Мама!!
– К сожалению, страшная правда. Мне его жена написала, тётя Лена.
Погиб… Разбился… Взорвался…
А как же весёлый смех дяди Павла, его карие глаза, его соломенный чуб?.. Где теперь это всё?.. А его голос, его ласковый голос, который говорит мне на прощанье: «До новых встреч, Ленок!»
ГДЕ ЖЕ МЫ ВСТРЕТИМСЯ ТЕПЕРЬ С ВАМИ, ДЯДЯ ПАВЕЛ???
Мне девять лет. Первая утрата в моей жизни. Огромная. Невосполнимая. Я даже не чувствую боли – в те, первые минуты. У меня просто шок. Я деревенею. Как будто выпадаю из жизни – куда-то в не-жизнь…
Фонари меркнут, воздух утрачивает свой аромат, мы молча бредём к дому в полном мраке по хлюпающей сырости… Какая ужасная эта жизнь! Разве в ней есть хоть какой-то смысл, если всё хорошее так жутко кончается?.. Если от дорогого, любимого человека не остаётся ни-че-го…
Но разве так может быть, чтобы НИЧЕГО???
* * *
Я разыскала фотографию дяди Павла, она была у нас единственная. Я долго смотрела на него, в его смеющиеся ласковые глаза, искала в них ответа. Ответа не было. Но из глаз струилось ЖИВОЕ ТЕПЛО… Дядя Павел, где вы теперь? Отзовитесь!.. Я не верю, что вас больше нет! НЕ ВЕРЮ!!!
Я не вернула фотографию в общесемейный пакет, я спрятала её у себя, между книг, и, придя из школы, подолгу смотрела на неё. Мне не с кем было поговорить о том, что меня мучило. Да я и не могла говорить об этом, не умела. Но чувствовала, что должна принять какое-то решение. Чтобы стало легче. Хотя бы чуть-чуть…
Я написала на обороте фотографии: «Дядя Павел. Хочу быть такой, как Вы».
Я решила стать лётчиком.
Непростое решение
Не могу сказать, что это решение было таким уж простым для меня. Ведь у меня уже была мечта – до этого я хотела стать ткачихой. Мой прадед по линии моей бабушки Дарьи – Лаврентий Волконский был ткачом, и, видимо, во мне в какой-то момент заговорили гены. Бабушка радовалась моему выбору. Но сейчас, ничего никому не говоря, я круто изменила мечту.
Решив стать лётчиком, я почувствовала живую связь с дядей Павлом – я продолжу его дело. Значит, мы с ним не расстаёмся навсегда. Мы с ним встретимся в небе, когда я взлечу туда…
А то, что я взлечу туда, в этом я не сомневалась.
Хотя и понимала, что на пути к этому меня ждут большие испытания. Дело в том, что у меня от рождения был очень слабый вестибулярный аппарат: меня укачивало даже на обычных качелях-лодочках. Однажды на такой «лодочке» я вообще потеряла сознание, чем испугала бабушку, очень испугалась сама, и качелей с тех пор избегала.
Ну, что ж, подумала я, значит, буду тренироваться, время у меня ещё есть. Мне даже нравилось, что надо что-то преодолевать в себе для осуществления своей мечты.
Всё-таки уезжаем…
Но начать тренировки в Луганске я не успела. Родители решили поскорее уехать из этого города, напуганные угольной пылью. Когда растаяли чёрные сугробы и распустились зелёные листочки, они вскоре тоже покрылись угольной пылью. «Боже мой, Боже мой! а ведь мы этим дышим! Это всё у нас внутри!» – горестно восклицала мама. И бабушка очень боялась за мои слабые лёгкие.
Обе они тормошили Фёдора, чтобы он поскорее брал на работе расчёт и ехал бы искал работу в каких-нибудь других местах – с более чистым воздухом. Решили, что он поедет в Западную Украину, где много лесов. Там в городе Черновцы жила одна из бабушкиных лагерных подруг – Ирина Полоса. Она нахваливала свой зелёный, чистый город и звала нас туда. Говорила, что первое время мы сможем пожить у неё. И Фёдор уехал на разведку.
Так что мы опять сидели на чемоданах. Маме и бабушке даже не было жаль трёхкомнатной квартиры в центре города. Уезжаем – и всё тут! Надо было только дождаться окончания моего третьего класса.
* * *
Начало лета 1960 года. На вокзале в Луганске. Ждём поезд на Днепропетровск.
Фёдор уже в Днепропетровске. Вызывал на днях маму на телефонный переговорный пункт, докладывал о разведке. Он вернулся из Черновиц злой. Да, там чистый воздух, и там есть для него работа. Но ему поставили условие: он должен вступить в коммунистическую партию. Потому что работа ответственная, и доверить её могут только коммунисту.
Фёдор в партию вступать отказался. Он приехал в Днепропетровск и ждал нас, чтобы вместе с мамой решить: что делать дальше?
* * *
Объявили посадку на наш поезд.
– До свиданья, Луганск! – говорю я.
– Не «до свиданья», а прощай! – строго поправляет меня мама.
– Почему «прощай»?
– Потому что мы сюда больше никогда не вернёмся, – сердито говорит мама.
– А мне хотелось бы…
– Мало ли чего тебе хотелось бы, – говорит мама сурово.
Значит, прощай… Мы прожили в Луганске всего полгода, но за это время успело наслучаться очень много. А вот друзей я здесь не нажила.
Я уезжала из этого города, жалея о наших чудесных прогулках с Маришкой, о добрых, улыбчивых прохожих, о своём замечательном логопеде и о книжном магазине рядом с домом, где я проводила свои лучшие часы…
Лежание за ширмой продолжается
Лежу за ширмой… К еде стойкое отвращение. Мой, отравленный жёлчью организм, не хочет ничего. Точнее: я хочу только солёных помидоров, но врач сказал, что мне их категорически нельзя. Бабушка, бедная, мучается со мной.
– Съешь хоть кусочек! – упрашивает она меня с утра до вечера.
– Ну, бабушка, ну я же тебе сказала: не хочу!
– Горе ты моё луковое! Как же ты выздоровеешь, если не ешь ничегошеньки? – причитает она надо мной. – Вот Лиля скоро придёт с работы, что я ей скажу?
Всё, что ей удаётся вложить мне в рот, не доставляет мне радости. Проглатываю с трудом – только ради бабушки.
* * *
Нет дня, чтобы я не вспомнила об отце. Увижу ли я его когда-нибудь ещё? Я вспоминаю белую тропу между сугробами, на которой мы прощались – в Оренбурге, когда мне было семь лет, и отец приезжал навестить меня… Вспоминаю его сине-голубые глаза – глаза сказочного принца… И как мы расходились по этой сверкающей на солнце тропе, расходились каждый в свою сторону: я торопилась в школу, а отец – на вокзал. Он теперь живёт в Одессе, у моря… А я – в степи. Неужели я никогда его больше не увижу?
Ни его, ни дяди Павла…
Картофельный дух
…Уже летали за окном сухие степные снежинки… Новый год была не за горами, а я всё ещё лежала за своей ширмой, до ужаса исхудавшая и слабая, как осенняя муха.
Но однажды… Я вдруг почувствовала что-то необычное… Прислушавшись к себе, я с удивлением обнаружила, что ХОЧУ ЕСТЬ! Это было давно забытое ощущение. Чувство голода было таким ошеломляюще-острым, что я не могла дожидаться, пока вернётся бабушка, ушедшая с Маришкой на прогулку. Я встала и на слабых ногах, покачиваясь, тихонько побрела из комнаты на кухню…
В кастрюльке на плите я обнаружила тёплое картофельное пюре. Оно было пушистое, светло-золотистое и источало такой нежный, совершенно волшебный аромат, от которого у меня закружилась голова…
Я не стала перекладывать пюре на холодную тарелку, а взяла эту тёплую, ласковую кастрюльку, поставила перед собой на стол и стала есть прямо из неё, большой ложкой. Никогда не забуду вкус этого пюре. И этот чудный аромат. Хотелось уткнуться головой прямо в кастрюльку и вдыхать, вдыхать, вдыхать…
Я отломила ломоть ржаного хлеба, с хлебом оказалось ещё вкуснее. Ничего и никогда я с таким наслаждением не ела. С каждой ложкой этой восхитительной еды я чувствовала, что крепну, как в сказке.
И в ту минуту поняла, что я – ВЫЗДОРАВЛИВАЮ! И мне стало хорошо и радостно…
Ёлка по имени сосна
В начале декабря болезнь жёлтого цвета, наконец, покинула меня. Я даже походила немного в школу. И собрала там урожай хороших отметок. Учительница удивилась: как мне удалось не отстать от одноклассников за столько месяцев болезни? Просто мне слишком легко всё давалось, так что моей особой заслуги в этом не было.
Мама с гордостью говорила: «У тебя моя голова!» А ещё она любила вспоминать: «Когда ты родилась, врач, который тебя принимал, такой пожилой, опытный, даже удивился, какая ты головастая. Сказал: надо же, никогда ещё таких головастых не видел! Видно, умной будет!»
Мама любила вспоминать этот знаменательный эпизод нашей общей жизни, и слова этого врача доставляли ей утешение. Но в душе она, конечно, очень переживала: что вот головастая-то головастая, но не всё так уж радужно.
В Вольногорске её переживания из-за меня особо обострились: ведь тут вокруг были друзья её молодости, и у всех были НОРМАЛЬНЫЕ дети. А её за что-то Бог наказал странным ребёнком. Поэтому мои пятёрки маму очень радовали, она в них нуждалась больше, чем я: они доказывали, что я всё же не хуже других детей. Ну, не особо хуже…
* * *
К Новому году папа Федя привёз откуда-то огромную ёлку – вернее, сосну. Потому что ёлки в этих краях не растут, но зато растут сосны – где-то в лесхозе.
Сосна была под самый потолок! Фёдор установил её в большой пустой комнате (из которой, наконец, были убраны моя кровать и ширма), и мы с мамой красавицу-сосну украсили.
Позвали девочек – двух Ань, Ларису и ещё кого-то, уже не помню. И были всякие игры, и знаменитый бабушкин рулет с маком. Было весело, и только изредка острая боль в правом боку напоминала о недавней желтухе…
Весной в балке
Снега почти нет, только в каких-то рытвинах и в тени кустов. Теплынь… солнышко… небо без единого облачка.
ЗЕМЛЯ – СИНЯЯ ОТ ПОДСНЕЖНИКОВ!.. Это поразило и запомнилось на всю жизнь. Поразило так сильно, как если бы я попала в сказку.
ЗЕМЛЯ, СИНЯЯ ОТ ПОДСНЕЖНИКОВ!..
7 марта 1961 года. Мы всем классом пришли в балку за цветами для наших мам – к завтрашнему женскому празднику.
Забыв на время о цели нашего похода, все ребята играют «в Чапаева». Аня-большая – Чапай, в своей серой каракулевой шубке, накинутой на плечи – как бурка у Чапаева. Аня-Чапай бежит по косогору, размахивая прутиком-шашкой, а за ней – её бесстрашное войско. Это – «красные». А где же их враги – «белые»? Что-то их не видно, наверное, все в страхе разбежались. «Белые» всегда должны в страхе бежать, а «красные» их побеждать. Всё должно быть по правде: как было в жизни. По крайней мере, как показано в фильме «Чапаев».
Игра «в Чапаева» – одна из игр нашего детства. В стране давным-давно победили «красные», но дети продолжали сражаться с воображаемыми «белыми», и каждое новое поколение советских детей безжалостно «белых» побивало.
Я не играю. Сижу на синем пригорке и дышу весной…
Помню, помню, как пахла сырая весенняя земля и эти небесные цветы!..
Полёт Гагарина
Был серенький, скучный апрельский денёк, я стояла на школьном дворе, в раздумье: идти ли мне домой, чего очень не хотелось, или поболтаться ещё на спортплощадке? И тут мимо пробежала девочка из нашего класса, Ася Шевченко, и радостно прокричала:
– Человек полетел в космос! Юрий Гагарин!..
В первую минуту мой мозг отказывается вместить это. Пытаюсь переварить и – не могу. Полетел в пустоту?.. Как это???
В следующую минуту столбняк сменился оглушительной радостью, безумным, распирающим восторгом. Хотелось орать, прыгать, беситься… Что мы и делали на школьном дворе, в маленьком степном городке, 12 апреля 1961 года, в том самом городке, где добывался титан для обшивки космических кораблей. И мы, подростки, чувствовали свою причастность к Свершившемуся!..
Да, это было оглушительно! По ощущениям – как выход в другое измерение. Это и был выход в другое измерение. Всё человечество в тот день вместе с Юрием Гагариным вышло в другое измерение.
И всё равно непонятно: КАК ЭТО ОН ПОЛЕТЕЛ ТУДА??? КАК ЭТО???
И как же он там теперь – в космосе?
– Да он уже вернулся! Уже приземлился! – кричит радостно кто-то.
Как, уже??? Так быстро?..
И как мы теперь будем жить после такого грандиозного события – я, наша семья, мои друзья, весь мир?.. Наверное, мы все должны как-то измениться. Конечно, в лучшую сторону. Ведь ПОСЛЕ ТАКОГО нельзя жить по-старому.
И вдруг – острое, пронзительное чувство: мы, люди земли, всё человечество, – мы все один народ. Мы все – РОДСТВЕННИКИ! У нас одна на всех национальность – ЗЕМЛЯНЕ. Нам не из-за чего ссориться, не из-за чего воевать. И я уверена, что больше никогда не будет газовых камер, не будет Маутхаузена и Освенцима…
А иначе что о нас подумают эти бесчисленные звёзды, планеты, галактики?.. Я смотрю вечером в сияющее звёздами небо – и мне кажется, что небо улыбается мне. Всем нам.
Так уже было несколько лет назад, в Оренбурге. Тогда все жители нашего большого дома выбежали ночью во двор, и дети тоже, и все вместе наблюдали за полётом первого искусственного спутника… Светящаяся, яркая точечка упорно и довольно шустро двигалась по чёрному небу – и всем людям, стоящим вокруг меня, и мне самой от этой малости – от этой яркой точечки на небе было так празднично на душе! И люди вокруг казались все родными, и небо – близкое и родное, и все галактики с их жителями – как будто соседи по лестничной площадке. Вот, скоро будем летать друг к другу в гости!
А какая потрясающая улыбка у Юрия Гагарина! Вся наша планета Земля сразу влюбилась в него. И новорождённых мальчишек стали называть Юрами. А где-то в Африке (как писали газеты) мальчика назвали просто – Гагарин.
Люди, в какое удивительное время мы живём!..
О наших родителях и наших идеалах
Наши родители целыми днями «горели на работе». Ведь родители наши были молодыми романтиками, они приехали в эту степь не носы своим отпрыскам подтирать, а строить город и комбинат. Работа была на первом месте не только у отцов, но и у матерей. И на втором, и на третьем месте была работа, работа, работа… Такое было время: так жил наш город, так жила вся страна. Все мамы работали.
В Вольногорске из маминых знакомых «не горела на работе» только одна, и её за это не уважали и даже презирали. То, что эта женщина посвятила себя дому и семье, называлось страшным словом – «мещанство». Мама моя говорила: «Не могу себе представить, что вот я встаю утром и начинаю вытирать пыль… Целый день хожу по дому в халате и вытираю пыль! Не представляю, чем Лиза живёт?.. Как можно не работать?»
Я слушала маму и думала: действительно, какой ужас – целыми днями вытирать пыль! А ведь тогда было именно такое представление о неработающей женщине: что она целыми днями вытирает пыль.
Так вот: мы, старшие в семьях дети, полностью отвечали за младших. Родители доверяли нам – а кому же ещё? Наверное, поэтому девочки с десяти лет чувствовали себя совершенно взрослыми. Мало того, что нас самих никто не караулил и не выгуливал, мы караулили и выгуливали своих младших, для которых мы были мамами в гораздо большей степени, чем наши работающие мамы. Утром мы отводили их в детский сад, а вечером приводили домой, и пока родители на работе, обязанностью старших было поиграть с младшим, погулять с ним, почитать ему книжку.
Помню, как мы с Анечкой пришли к Ане-большой, а у неё заболел младший брат Вова, и она очень ловко управлялась с ним, без всякой паники, как опытная мама.
Собственно, мамы только укладывали младших спать. А у старших спрашивали: «Как дела в школе? Всё в порядке?»
Кто же нас воспитывал тогда? Так они же и воспитывали – наши родители, одержимые своим делом. Для них деньги – не важно, барахло – не важно, вообще, быт, разговоры на бытовые темы – низменно, презираемо, всё это – мещанство. Главное – Дело, Работа! И работать надо не за деньги, конечно, а на совесть. Честность была на пьедестале. «Кристально честный человек!» – это была высшая оценка человеческого качества. Таков был дух времени. И особенно этот дух ощущался в нашей степи, где собрались молодые и одержимые.
Так что мы, подростки, поневоле пропитывались идеалами наших родителей. Нас воспитывало само время. Мы росли романтиками и идеалистами.
А потом пришло лето…
А потом опять пришло лето, жёстко-знойное и пыльное. И этот всегдашний ветер!.. Летом он особенно неистовый. Он обжигает лицо, колет глаза и забивает лёгкие сухим жаром…
Не представляю, как можно работать на стройке – под этим огненным, безумным солнцем?.. А ведь почти все жители города работают на стройке. Народ на улицах такой загорелый, как будто все только что приехали с курорта.
Наши игры летом – лазанье по чердакам (о, зачем я сидела на этой трубе, обмотанной стекловатой?!) Ну, всякие там игры с мячом и скакалкой, «классики»… Дня не хватит, чтобы во всё переиграть. Скучать некогда.
Прогулки в степь – блуждания по океану ветра… Походы в балку (единственное прохладное место в жару), и вообще таинственно, а главное то, что мы уходим сюда, никого не спрашиваясь, мы – взрослые, свободные люди.
* * *
…А за домом цвели в густой жаркой траве маленькие белые вьюнки… Их запах, томительно-сладкий, доводил меня почти до слёз. Я любила сидеть в этих травах, уходила сюда одна, здесь так хорошо было грустить – неведомо о чём…
Курган
А ещё я любила ходить на курган. О, какой здесь всегда ветер!.. Ветер!..
Одинокий курган за городом. На вершине его – железный треножник. Он называется «топографический». Такие треножники ставят на разных высотах – например, на высоких горах в Крыму. Наш курган – наша местная гора. Маленькая, единственная, любимая.
Если сидеть на том склоне, который смотрит в чисто поле, то кажется, что ты вообще одна на земле – среди жёлтых и зелёных трав, среди терпких запахов полыни и выгоревших на диком солнце васильков, среди оглушающего, жаркого стрекота кузнечиков…
Здесь точно очерчен круг, и всё суетное, преходящее, неважное – остаётся за этим кругом. А всё, что внутри круга – вечное, полное загадок и тайн… Здесь, в этих пыльных ложбинах, как в морщинах, притаилось другое – ПРОШЛОЕ – время.
Не нужно делать никаких усилий, чтобы оказаться в прошлом. Просто прижаться щекой к этой горячей (древней!) земле, вдохнуть поглубже дурманящий (древний!) запах, настроить свой слух на древнюю музыку маленьких музыкантов, притаившихся в жёлтой, горячей, шелестящей траве… И ты – уже в ПРОШЛОМ.
Мы, подростки, вообразили, что наша маленькая любимая гора – это скифский курган. А не просто «топографическая точка», как нас уверяли взрослые. Да, это древний скифский курган!.. Так нам хотелось думать. Так мы его ощущали.
И даже не подозревали тогда, что наша фантазия окажется реальностью. Но это выяснится только много лет спустя, когда я уже уеду отсюда.
Придут в нашу степь археологи, безжалостно раскопают нашу маленькую ветреную, стрекочущую, шелестящую гору – и возликуют: да это же древний скифский курган! И столько всего они нароют тут для своих музейных коллекций!
И Аня-маленькая с грустью напишет мне в письме: «Нет больше нашего кургана…»
Но тогда он БЫЛ! И это было моё любимое, заветное место.
Наш сад
Да, мы взяли весной участок земли за городом и посадили там пару тонких вишенок и несколько грядок клубники. Теперь я хожу пропалывать эти грядки и каждый вечер поливаю их – потому что жара жуткая, и земля очень быстро пересыхает.
Ну вот, у нас теперь есть свой сад. Как бы сад… Но, оказывается, ничего романтичного в этом нет – когда ещё вырастут наши вишенки?.. Когда ещё под ними можно будет спасаться от жары? Ах, как это было бы хорошо: сидеть в тени ветвей с книжкой в руках…
А пока – сиди на клубничной грядке под палящим солнцем и выщипывай сорняки! Я раньше никогда этим не занималась. Это похоже на то, как бабушка ощипывает курицу, принесённую с рынка.
Бабушка радуется, что у нас скоро будет своя клубника, и мы с Маришкой наконец-то наедимся ею от души. А мне этой клубники уже не хочется. Слишком жарко она мне достаётся. Я ненавижу жару! В жару я мечтаю об осенних дождях…
Сижу на корточках на раскалённой грядке, как рыбёшка на сковородке, выдергиваю жирные сорняки с мясистыми белыми корнями и мечтаю о прохладных дождях… Которые когда-нибудь польют… и охладят мою голову…
Улица, по которой я хожу в наш сад, называется Степная. В Вольногорске каждую улицу можно было бы назвать таким именем, ведь все улицы выходят в степь. По какой улице ни пойдёшь – непременно в степь попадёшь…
Хуторяне
Меня очень огорчало, что названия нашего города нет на карте. И наша железнодорожная станция называется вовсе не «Вольногорск», а «Вольные хутора». Эти «хутора» лично меня унижали и возмущали.
– Мама! Выходит, что мы – какие-то хуторяне? Кошмар какой-то!
– Что поделаешь, мы живём в засекреченном городе, – сказала мама.
Вот тогда я первый раз это и услышала: «засекреченный город». Ну, если засекреченный – тогда другое дело. В этом была своя романтика…
Так мы – засекреченные от большого мира «вольные хуторяне» – и жили в своей продутой всеми ветрами степи… На своём выжженном солнцем плоскогорье…
Жили одной большой семьёй. Одним хутором!
Друзья: Козловы и Попельницкие
Козловы в Вольногорск приехали из Сибири, хотя они оба, и Софочка, и Лёва, родом из Днепропетровска, а в Сибирь ездили на большую стройку. Козловы очень славные люди, приветливые и весёлые. С ними легко. Я люблю весёлых, лёгких по характеру людей. Я и сама хотела бы быть такой.
Софочка, жена Лёвы, говорит, что с Лёвой совершенно невозможно поссориться, хотя бы ненадолго – чтобы потом помириться. Именно ради этого! Чтобы узнать: как это бывает у других людей? Она говорит об этом почти с обидой, а все смеются, и она сама тоже.
Софочка очень красивая – стройная, черноглазая и курчавая. А Лёва не особо стройный и уже лысый, но тоже красивый. У него главное – это глаза. Его карие глаза большие и тёплые, добрые и почему-то всегда печальные, даже когда он смеётся. Мама говорит: «У Лёвы типично иудейские глаза».