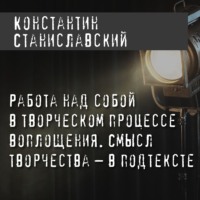Полная версия
Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском
Для иллюстрации той кривой линии, по которой идет работа любителя без руководства специалиста, я опишу несколько спектаклей, наиболее характерных для моей дальнейшей деятельности. При этом я не буду придерживаться хронологического их порядка, так как не это интересует меня. Важны самые этапы и ступени, по которым проходит актер при своем творческом росте, важна «кривая» этого роста, отклонение от кривой и возвращение к ней.
Актерство в жизни
Спектакль не клеился, так как не было возможности составить труппу. Тогда мы, то есть две сестры, я и товарищ, решили репетировать что-нибудь ради практики, для самих себя. Выбор пал на два французских переводных водевиля: первый – «Слабая струна», второй – «Тайна женщины».
Навидавшись всевозможных европейских див, мы обострили свой вкус и стали требовательны в своих художественных стремлениях. Режиссерские и актерские планы были шире наших возможностей и средств. В самом деле, что можно сделать без настоящей артистической техники, без настоящих знаний и даже без материалов для декораций и костюмов? Ведь, кроме старых платьев родителей, сестер, знакомых, выпрашиваемых ненужных украшений, лент, пуговиц, бантиков и других побрякушек, у нас ничего не было. Волей-неволей приходилось заменять роскошь костюмов и постановки художественной выдумкой, оригинальностью и непривычностью трактовки. Необходим был и режиссер, но, так как его не было, а играть хотелось страшно, приходилось самому стать режиссером. Сама жизнь заставляла нас учиться и устраивала нам практическую школу.
Вот, например, и в данном случае. Как сделать из простых водевилей исключительный пикантный спектакль во французском духе?
Фабула водевиля проста: два студента влюблены в двух гризеток, ищут в их душах слабую струну, чтобы начать играть на ней и завоевать их любовь. Но в чем слабая струна женщины? Вот канарейка бьет другую, а та, после сильной трепки, целуется. Не это ли слабая струна женщины? Их надо бить! Пробуют – и оба получают пощечины. А в конце концов гризетки в них влюбляются и они женятся. Не правда ли, как просто, ясно и наивно!
А вот другой несложный сюжет: художник и студент Мегрио, которого играл я, ухаживают за гризеткой. Художник хочет жениться, а студент ему помогает. Но они узнали страшную тайну: невеста пьянствует, у нее случайно найден ром. Смущение и горе! Но оказывается, что ром нужен гризетке для мытья волос. Ром достается студенту и пьяному привратнику, а гризетка – художнику, ее жениху. Последние в финале целуются, а студент и привратник валяются под столом и поют очень смешной заключительный куплет двух пьяниц.
Художник, гризетка, мансарда, студент, Монмартр – в этом есть стиль, очарование, грация и даже романтизм.
Дело было летом, мы, актеры, жили все вместе, безвыездно, в Любимовке. Поэтому можно было без конца репетировать, а потом и играть при первом удобном случае; и мы широко пользовались этой возможностью. Встанешь, бывало, утром, выкупаешься и – сыграешь водевиль. Потом позавтракаешь и – сыграешь другой. Погуляешь, опять повторишь первый. А там, смотришь, вечером кто-то приехал в гости, мы к нему:
«А не хотите ли, мы вам сыграем спектакль?»
«Хочу», – ответит приезжий.
Зажигаем керосиновые лампы – декорации никогда не снимались, – спускаем занавес, надеваем – кто блузу, кто фартук, чепец, кепи, и спектакль начался для одного зрителя. Для нас это были репетиции, при каждом повторении которых мы ставили себе все новые и новые задания ради самоусовершенствования. Вот тут брошенная мне когда-то фраза о «чувстве меры» изучалась со всех сторон. Наконец я довел всех актеров до такого чувства меры, при котором нельзя было дышать, а зритель засыпал от тоски.
«Хорошо, но… тихо!» – говорил он, конфузясь.
Значит, нужно говорить громче, решали мы. Отсюда – новая задача, новые репетиции. Пришел другой зритель, нашел, что слишком громко. Значит, нет чувства меры, и надо говорить негромко. Вот эта-то на первый взгляд простая задача никак не удавалась нам. Самое трудное на сцене – говорить не тише, не громче того, что нужно, при этом быть простым и естественным.
«Водевиль надо играть в темпе, полным тоном», – сказал нам новый зритель.
«В темпе? Хорошо! Акт идет сорок минут. Когда он пойдет тридцать, это значит, что мы играем его в темпе…»
После долгих репетиций мы достигли тридцати минут.
«Вот когда водевиль пройдет в двадцать минут, – заказывал я, – тогда будет совсем хорошо».
Создался своего рода спорт, игра на скорость, и мы достигли двадцати минут. Теперь казалось нам, что водевиль идет не громко и не тихо, в быстром темпе и в полном тоне, с чувством правды. Но когда приехал наш критик, он сказал: «Я ровно ничего понять не могу из того, что вы болтаете, и из того, что вы делаете. Вижу только, что все мечутся как угорелые».
Но мы не унывали.
«Вы говорите: мечутся. Значит, делать то же самое, но так, чтобы все было понятно и в дикции, и в движениях», – решили мы.
Если б нам удалось выполнить это труднейшее задание до конца, мы, быть может, стали бы великими артистами, но нам это не удалось. Тем не менее кое-чего мы достигли, и эта работа нам принесла, бесспорно, некоторую пользу, чисто внешнего характера. Мы стали говорить отчетливее и действовать определеннее. Это уже нечто. Но пока отчетливость была ради отчетливости, а определенность ради определенности. А при таких условиях не могло быть чувства правды.
И в результате – новое недоумение, тем более что мы не сознавали даже той небольшой внешней пользы, которая получилась от произведенного опыта.
В другой раз, желая также составить спектакль только из исполнителей, живущих летом вместе, мы, после тщетных поисков подходящей пьесы, решили сами для себя писать текст и музыку оперетки. В основу новой работы мы поставили такой принцип: каждый из исполнителей придумывает себе роль по своему вкусу и объясняет, кого бы ему хотелось играть. Собрав эти заказы, мы соображаем, какую фабулу можно составить из заданных ролей, и пишем текст. Музыку взялся написать один из товарищей. В этот раз мы – новоиспеченные писатели и композитор – познали собственным опытом все муки творчества. Мы поняли, чего стоит создать музыкально-драматическое произведение для сцены и в чем трудность этой творческой работы. Несомненно, что отдельные места нам удались. Они были сценичны, веселы, давали хороший материал режиссеру и актеру. Но когда мы попробовали соединить разрозненные части воедино и нанизать их на одну основную нить пьесы, то оказалось, что нить не продевается через все порознь созданные части. Не было общей, основной, всеобъединяющей мысли, которая руководила бы автором и направляла его к определенной цели. Напротив, было много самых разнообразных целей, по нескольку для каждого заказчика, которые тянули пьесу в разные концы. В отдельности – все хорошо, а вместе – не соединяется. Тогда мы не поняли причины нашей литературной неудачи, но уже одно то, что нам пришлось поработать в литературно-музыкальной области, было хорошо и полезно.
Я тоже придумал себе роль. «Кого бы я хотел играть?» – соображал я. Конечно, прежде всего, красивого, чтобы петь нежные любовные арии, иметь успех у дам и быть похожим на одного из моих любимых певцов, которого я мог бы копировать голосом и манерой держаться на сцене. Своего собственного амплуа я не хотел знать в описываемую пору. Все, конечно, знают наше актерское свойство: некрасивый хочет быть на сцене красавцем, низкий – высоким, неуклюжий – ловким. Тот, кто лишен трагических или лирических данных, мечтает о Гамлете или о ролях любовника; простак хочет быть Дон Жуаном, а комик – королем Лиром. Спросите любителя, какую роль он хотел бы всего более играть. Вы удивитесь его выбору. Люди всегда стремятся к тому, что им не дано, и актеры ищут на сцене того, чего они лишены в жизни. Но это опасный путь и заблуждение. Непонимание своего настоящего амплуа и призвания является самым сильным тормозом для дальнейшего развития актера. Это тот тупик, куда он заходит на десятки лет и из которого нет выхода, пока он не сознает своего заблуждения. Кстати, описываемый спектакль случайно принес одну существенную пользу нашему делу.
Вот что случилось: одна из исполнительниц заболела и выбыла из строя. Пришлось скрепя сердце передать роль моей сестре З.С. Алексеевой (Соколовой). Она была у нас на положении Золушки, которой поручалась только черная работа, то есть она готовила костюмы, монтировку, декорации, она выпускала актеров на сцену, но в качестве артистки появлялась лишь в самых экстренных случаях, и то в небольших ролях. И вдруг – у нее главная роль. Не веря в благоприятный исход этой замены, я репетировал по обязанности и часто не мог скрыть недоброго чувства к ней, хотя она была ни в чем не повинна и вовсе не заслуживала моего недоброжелательства. Я мучил ее и довел на одной из репетиций до последнего предела терпения. С отчаяния она провела главную сцену пьесы так, что мы ахнули. Точно она вырвала из себя то, что закупоривало ей душу, как пробка. Сковывавшая сестру застенчивость была ею сломана в порыве отчаяния, и ее сильный темперамент вырвался наружу, точно река в прорвавшуюся плотину. Явилась новая артистка!
Оперетта не имела успеха. Но в тот же вечер была поставлена драма, выбранная специально для только что открывшейся артистки. Мы играли пьесу Дьяченко «Практический господин». И для этой работы мы установили новый принцип, а именно: чтобы лучше сжиться с ролью и войти в ее кожу, говорили мы, нужна привычка, постоянные упражнения, и вот в чем они будут заключаться. Весь такой-то день мы должны жить не от своего лица, а от лица роли, в условиях жизни пьесы; и что бы ни случилось в окружающей нас подлинной жизни – гуляем ли мы, собираем ли грибы, катаемся ли на лодке, – мы должны руководиться обстоятельствами, указанными в пьесе, в зависимости от душевного склада каждого из действующих лиц. Приходилось как бы транспортировать действительную жизнь и приспособлять ее к роли. Так, например, по пьесе, отец и мать моей будущей невесты строго запрещали мне гулять и общаться с их дочерью, так как я – бедный, некрасивый студент, а она – богатая и красивая барышня. Приходилось хитрить, чтобы добиваться свидания потихоньку от тех, кто исполнял роли родителей. Вот, например, идет как раз в нашу сторону товарищ, изображавший отца, – надо было незаметно разойтись с сестрой, изображавшей невесту, в разные стороны или с помощью той или другой выдумки оправдать запрещенную встречу. В свою очередь, товарищу приходилось поступать в этих случаях не так, как бы он сам поступил в жизни, а так, как поступил бы, по его мнению, «практический господин», роль которого он играл.
Трудность этого опыта в том, что приходилось быть не только актером, но и автором все новых и новых экспромтов. Часто не хватало слов и тем для разговора, и тогда мы на минуту делали перерыв для совещания. Решив, что должно было произойти с действующими лицами при сложившихся обстоятельствах, какие мысли, слова, действия и поступки являлись для них логически необходимыми, мы снова возвращались к ролям и продолжали наши опыты. Сначала было очень трудно, но потом мы привыкли.
И на этот раз, по моей тогдашней привычке, я начал с копирования известного артиста императорских театров М.П. Садовского, в роли студента Мелузова в пьесе Островского «Таланты и поклонники». Я выработал в себе такую же, как у него, нелепую походку ступнями, вывернутыми внутрь, подслеповатость, корявые руки, привычку трепать едва растущие волосы бороды, поправлять очки и длинные волосы, лежащие вихрами. Незаметно для меня самого то, что я копировал, стало сначала от времени привычным, а потом и моим собственным, искренним, пережитым. На сцене, среди бутафорских вещей и загримированных людей, можно быть условным, но в живой, подлинной жизни нельзя играть напоказ, нельзя отличаться от окружающей действительности. Вот когда я опять живо познал, что такое чувство меры. Проделанная нами тогда работа не дала ожидаемых результатов, но я не сомневаюсь в том, что она заложила в нашей душе семена для будущего. Это была первая роль, в которой меня хвалили понимающие люди. Но барышни говорили: «Как жалко, что вы такой некрасивый!» Мне приятнее было верить барышням, а не знатокам, и я снова стал мечтать о ролях красавцев.
Едва выйдя из тупика на верную дорогу, я вновь пошел назад, в тупик, и продолжал пробовать все роли, кроме тех, которые были мне назначены природой. Бедные актеры, не знающие своего амплуа! Как важно вовремя познать свое призвание.
Музыка
Мне было лет двадцать с небольшим, когда один солидный деловой человек сказал мне: «Для того чтобы составить себе положение, надо заняться каким-нибудь общественным делом: стать попечителем училища, либо богадельни, либо гласным Думы». И вот с тех пор начались мои мытарства. Я ездил на какие-то заседания, старался быть импозантным и важным. Делал вид, что очень интересуюсь тем, какие кофты или чепчики сшили для старух-богаделок, придумывал какие-то меры для улучшения воспитания детей в России, абсолютно ничего не понимая в этом специальном и важном деле. С большим искусством, как актер, я научился глубокомысленно молчать, когда я ничего не понимал, и с большой выразительностью произносить таинственное восклицание: «Да! Гм!.. Пожалуй, я подумаю…» Я научился подслушивать чужие мнения и ловко выдавать их за свои. По-видимому, я так хорошо играл роль знатока того дела, в котором ничего не понимал, что меня наперебой стали выбирать во всякие попечительства, учебные заведения и проч. Я метался, мне всегда было некогда, я уставал, а на душе был холод, и окись, и ощущение того, что я делаю какое-то скверное дело: я делал не свое дело, и это, конечно, не могло дать удовлетворения; я делал карьеру, которая мне была не нужна. Тем не менее моя новая деятельность все больше и больше меня затягивала, и не было возможности отказаться от раз принятых на себя обязанностей. К счастью для меня, нашелся выход. Мой двоюродный брат, очень деятельный человек, бывший одним из директоров в Русском музыкальном обществе и Консерватории, должен был покинуть свой пост ради другой, высшей должности. Избрали меня, и я принял должность для того, чтобы иметь предлог отказаться от всех других должностей якобы за неимением времени. Лучше быть в атмосфере искусства, среди талантливых людей, чем в благотворительных учреждениях, которые мне были чужды.
А в то время в Консерватории были поистине интересные люди. Достаточно сказать, что моими тогдашними сотоварищами по дирекции были композитор Петр Ильич Чайковский, пианист и композитор Сергей Иванович Танеев, затем один из создателей галереи Третьяковых, Сергей Михайлович Третьяков, и весь состав профессоров, в том числе Василий Ильич Сафонов. Мое положение директора Русского музыкального общества давало мне постоянно случай знакомиться и сходиться и с другими выдающимися и талантливыми людьми, как А.Г. Рубинштейн или Эрмансдёрфер и другие, которые производили на меня большое впечатление и имели важное значение для моего артистического будущего.
Даже при поверхностном общении с великими людьми сама близость к ним, невидимый обмен душевных токов, их иногда даже бессознательное отношение к тому или другому явлению, отдельные восклицания или брошенное слово, красноречивая пауза оставляют след в наших душах. Впоследствии, развиваясь и сталкиваясь с аналогичными фактами в жизни, артист вспоминает взгляд, слова, восклицания, паузы великого человека, расшифровывает их и понимает их настоящий смысл. И я не раз вспоминал глаза, восклицания, многозначительное молчание А.Г. Рубинштейна после двух-трех встреч, которые подарила мне судьба.
Случилось так, что как раз на время ожидавшегося приезда А.Г. Рубинштейна, дирижировавшего в Москве одним из симфонических концертов, все главари Русского музыкального общества по важным делам уехали из Москвы. Пришлось оставить всю административную ответственность на меня одного. Я был этим крайне смущен, так как знал, что Рубинштейн был строг, прям до резкости и не терпел в искусстве никаких поблажек и компромиссов. Конечно, я поехал встречать его на станцию. Но он неожиданно приехал с более ранним поездом, и потому я познакомился с ним и представился ему лишь в гостинице. Разговор был самый официальный и краткий. Я спросил, нет ли у него каких-либо распоряжений или поручений относительно предстоящего концерта.
– Какие же поручения? Дело налаженное, – ответил он высоким голосом с лениво растянутой интонацией, пронизывая меня пытливым взглядом.
Он не стеснялся, как мы, грешные, долго, точно вещь, рассматривать людей. К слову сказать, такую же привычку я подметил и у других больших людей, с которыми мне приходилось сталкиваться впоследствии.
Я смутился и от ответа Рубинштейна, и от его взгляда; мне показалось, что они означают удивление и разочарование: «Вот, мол, до чего дошло! Какие директора пошли нынче – мальчишки! Что он понимает в нашем деле! А тоже – лезет с услугами!»
Его львиное спокойствие, грива волос на голове, полное отсутствие напряжения, ленивые, плавные движения, точно у царственного хищника, подавляли меня. Сидя вдвоем с ним в маленькой комнате, я чувствовал свое ничтожество и его громадность. Я знал, как этот спокойный богатырь мог загораться за роялем или за дирижерским пультом, как тогда вздымались его длинные волосы и закрывали половину его лица, точно львиная грива; каким огнем зажигался его взгляд; как его руки, голова, все туловище, словно с хищными порывами, бросались в разные стороны разбушевавшегося оркестра. Лев и Антон Рубинштейны слились в моем представлении. И потому мне казалось тогда, будто я сижу в гостях у царя зверей в его маленькой клетке.
Через час я встретился с ним на оркестровой репетиции. Рубинштейн старался перекричать гремевший оркестр своим высоким голосом. Он вдруг завизжал, обращаясь к тромбонам, и что-то резко крикнул им. По-видимому, ему было мало звуков и силы для передачи взбудораженных в нем чувств, и он требовал, чтобы тромбоны подняли выше свои раструбы, чтобы их рев летел в публику без всяких преград. Репетиция кончилась. Рубинштейн, как лев после боя, лежал с кошачьей мягкостью во всем усталом теле, обливаясь потом. С замиранием сердца я стоял у двери его артистической уборной, не то охраняя его, не то молясь на него, не то любуясь им в щелку двери. Музыканты тоже были воодушевлены и почтительно провожали его, когда Антон Григорьевич после отдыха отбывал в гостиницу, в свою маленькую клетку.
Каково же было мое недоумение, когда несколько взволнованных музыкантов подошли ко мне и вызывающим тоном объявили, что они не придут на сегодняшний концерт, если Рубинштейн не извинится перед ними.
– В чем? – спрашивал я, удивленный, вспоминая все то прекрасное, что я только что видел и слышал.
Так я и не мог добиться, в чем заключалась обида. По-видимому, музыкантам показалось, что он крикнул какое-то слово, или они не мирились с самым тоном и интонацией творчески-взволнованного гения. Как я ни старался, но мне не удалось успокоить их. Я только добился от них согласия прийти на концерт. Если Рубинштейн обещает им извиниться перед ними после концерта, они сядут за пульты, если же нет – они поступят, как хотят.
Я тотчас же поехал к Рубинштейну, извинялся, заикался, говорил бестолково о том, что случилось, и спрашивал, как я должен поступить. Он полулежал в той же спокойной позе, как при первом моем знакомстве с ним. Мое заявление не произвело на него решительно никакого впечатления, тогда как я потел от волнения, страха перед готовящимся скандалом и беспомощности своего ответственного положения.
– Хорошо-о-о! Я им скажу-у-у! – медленно пропищал Антон Григорьевич.
Если передать эту фразу с той интонацией, с какой она была сказана, его слова означали: «Хорошо, я им покажу, как скандалить! Я им задам!»
– В таком случае я могу обещать, что вы извинитесь? – старался я поставить точку над i.
– Хорошо, хорошо!.. Скажите им!.. Пусть садятся за пульты!.. – еще спокойнее процедил он, протягиваясь лениво к письму, которое он начал распечатывать.
Конечно, мне следовало бы добиться более определенного и ясного ответа, но я не посмел задерживать его дольше, не сумел настоять на своем требовании и ушел неудовлетворенный, неуспокоенный и неуверенный в предстоящем концерте.
До начала его я сказал музыкантам, что видел Рубинштейна, передал ему обо всем происшедшем, на что он мне ответил: «Хорошо, хорошо, я им скажу!» Конечно, подлинную интонацию его, в которой и была вся соль, я утаил. Музыканты остались удовлетворенными, да к тому же, по-видимому, их прежний пыл успел уже почти совсем остыть.
Концерт прошел с потрясающим успехом. Но до какой степени гений был холоден и презрителен к нему и безучастен к толпе, его прославлявшей! Он выходил, кланялся механически и, как мне казалось, тотчас же забывал об окружающей его обстановке и на виду у публики беседовал с каким-нибудь встретившимся знакомым, точно весь грохот и вызванный им же подъем вовсе к нему не относились. Когда нетерпение публики и стучавшего по пультам оркестра доходило до предела и казалось, что еще момент – и толпа начнет скандалить от нетерпения, меня, как администратора концерта, посылали к Рубинштейну напомнить о том, что его успех еще не кончился и что надо еще раз выходить. Я робко исполнял свою обязанность и получал спокойный ответ:
– Я же слышу-у-у!
Другими словами: «Не вам меня учить, как обращаться… с ними!..»
Я замолкал, внутренне восторгался и завидовал праву гения на такое величественное безучастие к славе и сознание своего превосходства над толпой.
Мельком я видел музыкантов-бунтарей: во время оваций они кричали и шумели больше всех.
У меня была еще одна встреча с А.Г. Рубинштейном, и, несмотря на глупую роль, которую я тогда играл, я расскажу о ней, так как и в этой встрече сказались типичные черты великого человека и произвели на меня неизгладимое впечатление.
Это было тоже во время моего директорства в Русском музыкальном обществе. В Императорском Большом театре с большой торжественностью праздновали двухсотое представление «Демона». Цвет московского общества наполнял театр. Парадное освещение, именитые гости в царских ложах, лучшие певцы даже в самых маленьких ролях. Грандиозная встреча любимца, туш оркестра, «Слава», пропетая всем хором и солистами. Началась увертюра, открылся занавес. Спектакль пошел. Кончился первый акт с огромным успехом, с вызовами. Начался второй. Композитор дирижировал, но нервничал. Львиный его взор не раз обжигал то одного, то другого исполнителя или оркестранта. Вырывались нетерпеливые, досадливые движения. В театре говорили:
– Антон Григорьевич не в духе. Чем-то недоволен…
В момент появления Демона из-под пола, над лежащей на тахте Тамарой, Антон Григорьевич остановил весь оркестр, весь спектакль и, нервно стуча палочкой о пульт, с нетерпением восклицал что-то, обращаясь к стоявшим за кулисами:
– Я сто-о-о ра-а-з говорил, что…
Дальше нельзя было расслышать.
Как оказалось потом, все дело заключалось в рефлекторе, который должен был освещать Демона не спереди, а сзади.
Наступила гробовая пауза. Заметались по сцене и за кулисами, откуда выглядывали какие-то головы. Какие-то руки махали кому-то. Бедные артисты, внезапно лишенные музыки и привычного действия на сцене, стояли потерянные, точно их всех сразу раздели и они стыдились своей неприкрытой наготы. Казалось, что прошел целый час времени. Толпа в зрительном зале, замершая было от смущения, начала понемногу оправляться, будировать и критиковать. В зале рос гул. Рубинштейн сидел в спокойной позе – почти такой же, какую я видел в гостинице при первом знакомстве с ним. Когда гул толпы принял неподобающие размеры, он спокойно, лениво и строго обернулся назад, в ее сторону, и постучал палочкой по пульту. Но это вовсе не значило, что он сдался и хочет продолжать спектакль. Это был строгий призыв толпы к порядку. В зале зашикали, и водворилось молчание. Прошло еще немало времени, пока наконец сильный свет ударил в спину Демона, отчего его фигура стала почти силуэтом и приняла призрачный вид. Спектакль продолжали.
«Как красиво!» – пронеслось по залу.
Овации в следующем антракте приняли более скромный характер – не потому ли, что публика обиделась? Но это ровно никак не повлияло на Рубинштейна. Я видел его за кулисами совершенно спокойного, разговаривающего с кем-то.
Следующий акт открывали мы, то есть я и один из товарищей по дирекции Русского музыкального общества: нам поручили поднести композитору венок огромных размеров с длинными лентами. Лишь только Рубинштейн сел за пульт, нас и нашу громадную ношу в буквальном смысле протиснули между красным порталом и занавесом. Неудивительно, что было смешно, когда мы пролезали через эту щель. Не привыкшие к сильной рампе большой сцены, мы были сразу ослеплены. Решительно ничего не было видно впереди, точно какой-то туман от рампы застилал все, что делалось по ту сторону ее. Мы шли, шли… Мне показалось, что мы прошли уже целую версту… В театре раздавался говор, перешедший в конце концов в гул. Трехтысячная толпа ржала от хохота, а мы продолжали идти, идти, не понимая, что с нами произошло, пока наконец из тумана не выросла перед нами ложа директора театра, выступающая на самые подмостки. Оказывается, что мы публично заблудились на сцене: давно прошли середину ее, где у самой суфлерской будки, впереди оркестра и спиной к нему, в прежнее время помещался дирижер, что давало возможность передавать подношения со сцены прямо в оркестр, из рук в руки. Заслонив глаза от рампы, смотря через рампу в зал, забыв о громадном венке, который волочился по земле со своими лентами, мы представляли собою комическую группу. Антон Григорьевич покатывался со смеху. Он отчаянно стучал по пульту палочкой, чтоб издали дать нам знать о себе. Наконец мы нашли его, передали ему венок и от смущения пошли со сцены ускоренной походкой, граничащей с бегом.