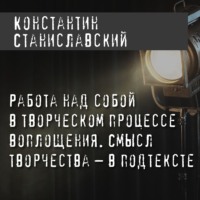Полная версия
Моя жизнь в искусстве. В спорах о Станиславском
О! Если б были артисты, способные выполнить такую простую мизансцену: стояние у суфлерской будки. Как это упростило бы театральное дело. Но… таких артистов не существует на свете. Я следил за величайшими артистами, чтобы выяснить себе, сколько минут они одни, стоя перед рампой на авансцене, без всякой посторонней помощи, могут удерживать на себе внимание толпы. При этом я также следил, насколько разнообразны их позы, движения и мимика. Опыт показал мне, что максимум их способности одному безостановочно держать внимание тысячной толпы при сильной захватывающей сцене равен семи минутам (это огромно!). Минимум – при обыкновенной тихой сцене – одна минута (это тоже много!). А далее им уже не хватает разнообразия выразительных средств, им приходится повторяться, отчего внимание ослабевает, вплоть до следующего перелома, вызывающего новые приемы воплощения и новый приступ внимания зрителей.
Заметьте – это у гениев! А что же у простых актеров с их доморощенными приемами игры, с плоским малоподвижным лицом, с руками, которые не гнутся, с телом, которое коченеет от напряжения, с ногами, которые не стоят, а топчутся на месте! Долго ли они могут владеть вниманием зрителя? А ведь это именно они больше всего любят стоять на авансцене с ничего не выражающим лицом и телом, выставленным напоказ. Это они стараются всегда держаться поближе к суфлеру. И они имеют претензию заполнить собою всю сцену, держать на себе все время внимание всей театральной толпы? Но им это никогда не удается. Вот почему они так нервничают, вертятся вьюном, боясь, что публика соскучится. Они, более чем кто-либо, должны поклониться режиссеру, художнику и просить, чтобы для них был заготовлен конструктором удобный пол, который помог бы им, с помощью мизансцены и группировки, передать те душевные тонкости роли, которые они не могут передать своими доморощенными средствами. Скульптурные предметы помогли бы им если не вполне выявить чувства роли во всех положениях, то, по крайней мере, пластически передать намеченный внутренний рисунок, а удачная мизансцена и группировка создала бы соответствующую атмосферу. Какое дело мне, актеру, что за моей спиной висит задник кисти великого живописца! Я его не вижу, он меня не воодушевляет, он мне не помогает. Напротив, он меня только обязывает быть таким же гениальным, как и тот фон, на котором я стою и которого я не вижу. Часто этот чудесный красочный фон мне даже мешает, так как мы не сговорились с художником и в большинстве случаев тянем в разные стороны. Дайте мне лучше одно стильное кресло, вокруг которого я найду бесконечное количество поз и движений для выражения своего чувства; дайте мне камень, на который я мог бы сесть и мечтать, или лежать в отчаянии, или стоять высоко, чтобы быть ближе к небесам. Эти осязаемые и видимые нами на сцене предметы, возбуждающие нас художественно своей красотой, нужны и важны нам, артистам, на подмостках куда больше красочных полотен, которых мы не видим. Скульптурные вещи живут с нами, а мы – с ними, тогда как живописные полотна, висящие сзади, живут врозь с нами.
Новая пьеса, «Потонувший колокол», давала огромные возможности режиссеру-конструктору. Судите сами: первое действие – горы, хаос, камни, скалы, деревья и вода, где живет вся сказочная нечисть. Я приготовил актерам такой пол, по которому ходить было невозможно. «Пусть, – думал я, – актеры лазят или сидят на камнях, прыгают по скалам, балансируют или ползают по деревьям, пусть уходят вниз, в люк, чтобы снова взбираться кверху. Это заставит их (и меня в том числе) как актеров приспосабливаться к непривычной для театра мизансцене, играть так, как по традициям играть было не принято, без стояния у рампы». Негде было производить оперного торжественного шествия, не для чего было прибегать к воздеванию «руц». На всей сцене было всего несколько камней, на которых можно было стоять или сидеть. И я не ошибся. Как режиссер я не только помог актеру необычной планировкой, но вызвал, помимо его воли, новые жесты и приемы игры. Сколько ролей выиграло от этой мизансцены! Скачущий Леший, которого превосходно играл Г.С. Бурджалов; плывущий и ныряющий в воде Водяной, которого прекрасно исполняли В.В. Лужский и А.А. Санин; прыгающая по скалам Раутенделейн в исполнении М.Ф. Андреевой; рождающиеся из тумана эльфы, протискивающаяся сквозь красную расселину скал Виттиха – все это само по себе делало роли характерными, красочными и вызывало типичные для сказочного мира образы и будило фантазию актера. Справедливость требует признать, что на этот раз я сделал шаг вперед как режиссер.
Совсем иначе дело обстояло со мной как с актером. Все то, что я не умел делать, чего я не должен был делать, к чему я не призван природой, составляло главную суть роли мастера Генриха. Лиризм, который я тогда ошибочно понимал в слащавом, женственном, сентиментальном смысле; романтизм, который ни я и никто из актеров, кроме подлинных гениев, не умел выражать просто, значительно и благородно; наконец, пафос и трагический подъем в сильных местах, который лежал на мне одном, без помощи режиссерских приемов, помогавших мне в «Акосте» или «Польском еврее», – все это было выше моих сил и данных. Теперь мы знаем, что, когда актер стремится сделать непосильное для него, он попадает в трясину внешних, механических, ремесленных штампов, что актерский штамп есть результат артистического бессилия. В этой роли, в моменты сильного подъема, я еще ярче, грубее и по-актерски увереннее штамповал то, что было мне не по силам. Новый вред от непонимания своего амплуа, новая задержка в развитии своего искусства, новое насилие над своей природой!
Но… поклонницы и поклонники, всегда мешающие правильной самооценке артиста, снова укоренили меня в моей ошибке. Правда, многие товарищи, мнением которых я дорожил, многозначительно и грустно молчали. Тем сильнее я откликался на лесть, боясь потерять веру в себя. И снова я легкомысленно объяснял себе молчание завистью и интригой. Но все-таки внутри была ноющая боль от неудовлетворения. Скажу в свое оправдание, что не самолюбие и избалованность артиста делали меня таким самоуверенным. Напротив, постоянные тайные сомнения в себе самом и панический страх потерять веру в себя, без которой не хватит мужества выходить на подмостки и встречаться лицом к лицу с толпой, – вот что заставляло меня насильно верить своему успеху. Ведь большинство актеров боится правды не потому, что они ее не выносят, а потому, что она может разбить в них веру в себя.
Пьеса имела исключительный успех и была повторена не только в клубе, но позднее и в самом Художественном театре.
Знаменитая встреча
Пусть когда-нибудь сам Владимир Иванович Немирович-Данченко расскажет о том, что, где и как подготовило его к деятельности в Московском Художественном театре. Я же пока лишь напомню, что он был тогда известным драматургом, в котором некоторые видели преемника Островского. Если судить по его показываниям на репетиции, он прирожденный актер, который лишь случайно не специализировался в этой области. Параллельно со своей литературной деятельностью в течение многих лет Владимир Иванович руководил школой Московского Филармонического общества. Немало молодых русских артистов прошло через его руки на императорскую, частную и провинциальную сцены. Выпуск учеников 1898 года затмевал все результаты предыдущих годов. Школу оканчивала целая группа актеров, точно нарочно подобранная по амплуа. Правда, не все были одинаково одарены, но зато все выросли под одной планетой и хранили в душе одни и те же заветы и идеалы, вложенные в них учителем. Были среди них и хорошие артистические индивидуальности, которые так редки. Школу кончали в том году: Книппер – впоследствии жена Чехова, Савицкая, Мейерхольд, Мунт, Снегирев… Не обидно ли, если б эта случайно создавшаяся труппа разбрелась по медвежьим углам обширной России и застряла там, как и многие прежние подававшие надежды питомцы В.И. Немировича-Данченко.
Он, как и я, безнадежно смотрел на положение театра конца прошлого столетия, в котором блестящие традиции прежнего выродились в простой технический, ловкий прием игры. Я не говорю, конечно, об отдельных блестящих талантах того времени, которые блистали на столичных и провинциальных сценах; актерская масса благодаря возникшим театральным школам тоже поднялась в своем интеллектуальном уровне. Но подлинных талантов «милостью Божьей» было мало, а театральное дело в те времена находилось, с одной стороны, в руках буфетчиков, а с другой – в руках бюрократов. Можно ли было рассчитывать при таких условиях на процветание искусства?
Мечтая о театре на новых началах, ища для создания его подходящих людей, мы уже давно искали друг друга. Владимиру Ивановичу легче было найти меня, так как я в качестве актера, режиссера и руководителя любительского кружка постоянно показывал свою работу на публичных спектаклях. Его же школьные вечера были редки, в большинстве случаев закрыты и далеко не всем доступны.
Вот почему он первый нашел, угадал и позвал меня. В июне 1897 года я получил от него записку, приглашавшую меня приехать для переговоров в один из московских ресторанов, называвшийся «Славянским базаром». Там он выяснил мне цель нашего свидания. Она заключалась в создании нового театра, в который я должен был войти со своей группой любителей, а он – со своей группой выпускаемых в следующем году учеников. К этому ядру нужно было прибавить его прежних учеников, И.М. Москвина и М.Л. Роксанову, и подобрать недостающих артистов из других театров столиц и провинции. Главный же вопрос заключался в том, чтобы выяснить, насколько художественные принципы руководителей будущего дела родственны между собой, насколько каждый из нас способен пойти на взаимные уступки и какие существуют у нас точки соприкосновения.
Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела, вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения.
– Вот вам актер А., – экзаменовали мы друг друга. – Считаете вы его талантливым?
– В высокой степени.
– Возьмете вы его к себе в труппу?
– Нет.
– Почему?
– Он приспособил себя к карьере, свой талант – к требованиям публики, свой характер – к капризам антрепренера и всего себя – к театральной дешевке. Тот, кто отравлен таким ядом, не может исцелиться.
– А что вы скажете про актрису Б.?
– Хорошая актриса, но не для нашего дела.
– Почему?
– Она не любит искусства, а только себя в искусстве.
– А актриса В.?
– Не годится – неисправимая каботинка.
– А актер Г.?
– На этого советую обратить ваше внимание.
– Почему?
– У него есть идеалы, за которые он борется: он не мирится с существующим. Это человек идеи.
– Я того же мнения и потому, с вашего позволения, заношу его в список кандидатов.
Но вот зашел вопрос о литературе, и я сразу почувствовал превосходство Владимира Ивановича над собой, охотно подчинился его авторитету, записав в протокол заседания, что признаю за моим будущим сотоварищем по театру В.И. Немировичем-Данченко полное право veto во всех вопросах литературного характера.
Зато в области актерской, режиссерской, постановочной я не оказался таким уступчивым. У меня был недостаток, который, смею думать, мне удалось теперь значительно побороть: раз увлекшись чем-нибудь, я без оглядки, точно в шорах, напролом стремился к заданной цели. В этот момент ни убеждения, ни доводы не действовали на меня. Все это, очевидно, следы детского упрямства. В то время, о котором идет речь, я был уже довольно опытен в вопросах режиссерского дела. Поэтому Владимиру Ивановичу пришлось согласиться на право моего режиссерского и художественно-постановочного veto. В протокол было записано: «Литературное veto принадлежит Немировичу-Данченко, художественное – Станиславскому».
В течение последующих лет мы крепко держались этого пункта условия. Стоило одному из нас произнести магическое слово veto, спор на полуслове обрывался без права его возобновления, и вся ответственность падала на того, кто наложил свой запрет.
Конечно, мы очень осторожно пользовались своим ультимативным правом и прибегали к нему только в крайних случаях, когда были вполне уверены в своей правоте. Бывали, разумеется, и ошибки, но зато каждой из нас имел возможность до конца и без помехи проводить свои планы в области своей специальности, другие, менее нас опытные, тем временем смотрели и учились тому, чего раньше не понимали.
В вопросах организации я охотно и легко уступил первенство своему новому товарищу, так как административный талант Владимира Ивановича был слишком для меня очевиден. В деловых вопросах театра я ограничивался совещательной ролью, когда мой опыт оказывался нужным.
Финансовый вопрос также обсуждался на заседании в «Славянском базаре». Было решено в первую очередь вербовать пайщиков из числа директоров Филармонического общества, среди которых было немало состоятельных лиц, а также и среди членов любительского кружка Общества искусства и литературы. Сам я мог принять в деле очень скромное материальное участие, так как прежние долги от Общества искусства и литературы сильно подорвали мое финансовое положение.
В вопросах общей этики мы сразу сговорились на том, что, прежде чем требовать от актеров выполнения всех законов приличия, обязательных для всех культурных людей, необходимо поставить их в человеческие условия. Вспомните, в каких условиях живут артисты, в особенности в провинции. У них часто нет даже своего угла за кулисами. Три четверти всего здания отдано зрителям: у них и буфеты, чайные, закусочные, и прекрасные раздевальни, и фойе, и курильные, и уборные с рукомойниками и теплой водой, и коридоры-променуары. Лишь одна четверть здания отдана в распоряжение сценического искусства. Здесь и декорационные, бутафорские, электроционные склады, здесь и конторы, здесь и мастерские, здесь и костюмерские и швальни. Много ли остается на долю актера? Несколько крошечных конур, похожих на стойла, под сценой, без окон и вентиляции, всегда пыльных и грязных, так как, сколько их ни мети, а сверху, со сценического пола, образующего потолок этих так называемых уборных, непрестанно сыплются сор, грязь, пыль, да такая едкая, перемешанная с краской, осыпающейся с декораций, что от нее болят глаза и легкие. Вспомните обстановку этих уборных – чем она лучше тюремной камеры: несколько плохо обструганных досок на кронштейнах, прибитых к стене, заменяющих гримировальный стол; небольшое зеркало, предназначенное для двух или трех артистов, в большинстве случаев кривое, купленное по случаю, из бракованного стекла; старый стул, негодный для партера, наскоро починенный и разжалованный в артистическую уборную; деревянная планка на стене с набитыми на ней гвоздями, заменяющая вешалку; дощатая дверь с продольными трещинами, через которые удобно подсматривать одевание дам; гвоздь и веревка вместо замка; не всегда приличные надписи на стенах. Если же заглянешь в конуру суфлера – вспомнишь средневековую инквизицию! Этот мученик обречен в театре на вечную пытку, от которой становится страшно за человека. Грязный ящик вроде собачника, обитый пыльным войлоком. Половина туловища суфлера погружена в подполье сцены с подвальной сыростью, другая половина туловища его – на уровне пола сцены – подогревается с обеих сторон стосвечовыми раскаленными лампами рампы. Вся пыль при раздвигании занавеса, при шмыгании женских юбок о пол сцены летит в рот мученика-суфлера. А он принужден весь день и весь вечер без передышки, в течение всего спектакля и репетиций, говорить неестественно сжатым, часто напряженным голосом, чтобы быть слышным только актерам, а не зрителям. Известно, что три четверти суфлеров кончают чахоткой. Все это знают, никто не пытается изобрести более или менее приличную суфлерскую будку, несмотря на то что наш век не скупится на изобретения.
В большинстве театров зал, сцена и уборные включены в общую систему отопления, а топка производится постольку, поскольку это нужно для публики, и температура в уборных артистов находится в прямой зависимости от температуры в зрительном зале. Надо, чтобы зрителю было хорошо, а об актерах не думают. Поэтому в большинстве случаев артисты или зябнут в своих летних костюмах, в трико, или, наоборот, при усиленной топке, изнемогают от жары в тяжелых шубах на меху, в которые их одевают для русских боярских пьес вроде «Царя Федора». В обычное же, не спектакльное, а репетиционное время в большинстве случаев театр совсем не отапливается. Напротив, он сильно охолаживается с раннего утра выноскою и приноскою декораций после вчерашнего и для сегодняшнего вечернего спектакля. При этом огромные ворота на сцене распахиваются и часами держатся в раскрытом положении, пока сценические рабочие не окончат носки. Нередко они задерживают начало репетиций на сцене, и потому артисты, собирающиеся для художественной работы, принуждены некоторое время дышать на сцене морозным воздухом, который, ворвавшись на сцену при носке, не успел еще согреться. При таких условиях приходится репетировать в шубах, в теплых ботиках, вместе с которыми вносится на сцену уличная грязь. За неимением своего угла или фойе, которых в описываемое время почти не бывало в театрах, артисту негде приютиться, и потому служители эстетики и красоты принуждены слоняться по грязным кулисам, по холодным коридорам, уборным в ожидании своего выхода на сцену. Беспрерывное курение, холодная закуска, колбаса, селедка, ветчина на разложенных на коленях газетах, сплетня, пошлый флирт, злословие, анекдоты являются естественным следствием нечеловеческих условий, в которые поставлен актер. В этой обстановке служители муз проводят три четверти своей жизни.
Все эти условия мы приняли во внимание и постановили в том знаменитом заседании, что первые деньги, которые нам удастся собрать на ремонт будущего нашего здания, будут употреблены на то, чтоб обставить закулисную жизнь актеров так, как это необходимо для эстетики и для культурной творческой жизни. У каждого артиста должна быть уборная, хотя бы не большего размера, чем одиночная пароходная каюта. Эта комната должна быть устроена и отделана по требованиям и вкусу ее обитателя. Там должен быть письменный стол со всеми необходимыми принадлежностями. По вечерам тот же стол может превращаться из письменного в гримировальный. Должна быть небольшая библиотека, шкаф для платья и костюмов, умывальник, покойное кресло, диван для отдыха после репетиций или перед спектаклями, паркетный пол, драпировки на окнах, с помощью которых можно было бы делать полную темноту во время утренних спектаклей, хорошее освещение для грима по вечерам и окно с дневным светом по утрам. Ведь мы, актеры, по целым месяцам почти не видим солнца: встаем поздно, так как, взволнованные вечерним спектаклем, поздно засыпаем, спешим на репетицию, целый день репетируем в помещении без света, а когда зимой, по окончании нашей дневной работы, выходим на улицу, уже зажжены фонари. И так изо дня в день в течение многих зимних месяцев. В уборных артистов должна быть пароходная чистота. Это потребует большого количества прислуги, и надо ее дать в первую очередь. Мужские и женские уборные должны быть в разных этажах, с отдельным мужским и женским фойе для общих сборищ за кулисами и для приема гостей. Там необходимо поставить пианино, библиотеку, большой стол для газет и книг, шахматы (карты строго воспрещаются, как и всякие азартные игры). Вход в верхнем платье, в калошах, шубах и шапках строжайшим образом воспрещен. Женщинам не дозволяется ношение шляп в помещении театра.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Ты этого хотел, Жорж Данден!» (фр.) – фраза из комедии Мольера «Жорж Данден».
2
«Танец с шалью» (фр.).
3
Ут-диез (лат.-фр.) – самая высокая теноровая нота.
4
Фанты (фр.).
5
«Вечное женственное» (нем.).
6
Зятя (фр.).
7
Невестка (фр.).
8
Принимать гостей (фр.).
9
«Так!»… «Итак, вы думаете…»… «Так, теперь я понимаю…» (нем.)
10
«Нет?» (нем.)
11
«Но что же?» – «Что-нибудь Моцарта, Баха» (нем.).
12
«Так сыграйте» (нем.).
13
Навязчивую идею (фр.).
14
«Версальский экспромт» (фр.) – одноактная комедия Мольера.
15
Театр.: первый любовник (амплуа) (фр.).
16
«Начинаем» (нем.).
17
Государственный переворот (фр.); в данном случае – решительная мера.