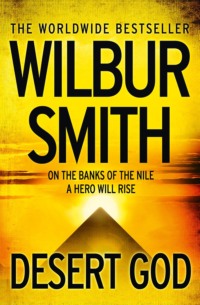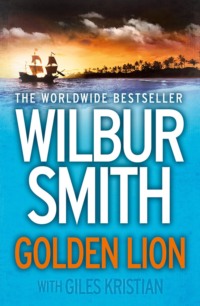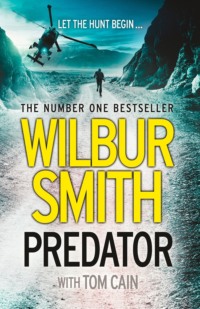Полная версия
Падение с небес
Он открыл рот и что-то сказал, но Марк ничего не понял; под полными обескровленными губами сверкнули белые, ровные зубы.
Прислонившись спиной к стволу, немец медленно оседал, продолжая смотреть на Марка. Руки с живота упали на снег, размеренно пульсирующий фонтанчик крови стал уменьшаться и потом прекратился совсем. Голубые глаза утратили лихорадочный блеск, потускнели, взгляд утратил сосредоточенность.
Марку казалось, что ткань его сознания рвется, словно тонкий шелк. Он ощущал это почти физически – словно слышал, как рассудок его не выдерживает и подается внутри.
Глаза мертвого немца помутились, черты, казалось, растаяли как воск, но потом снова медленно восстановились. Марк чувствовал, как разрыв становится все шире, и наконец шелковая завеса разума прорвалась, а за ней вставали мрак и гулкая, наполненная эхом бездна.
Черты мертвого немца продолжали менять форму, пока не застыли окончательно, и Марк, словно в дрожащем, кривом зеркале, видел собственное лицо. Собственное испуганное лицо, карие, исполненные ужасом глаза, собственный раскрытый рот, из которого вырвался крик отчаяния и боли всего мира.
Взрыв запредельного страха вырвал последние нити, скрепляющие рассудок Марка, и он услышал свой пронзительный крик… ему показалось, что ноги сами куда-то его понесли, но в голове царил сплошной мрак, а тело стало легким, почти невесомым, как летящая птичка.
Немецкий пулеметчик яростным рывком снял с предохранителя свой «максим» и резко повел стволом, скрытым под наполненным водой кожухом, влево и одновременно вниз, нацелив его на укрытые мешками с песком огневые позиции британцев.
Вдруг его внимание привлекла фигурка бегущего вниз по склону наискосок и влево человека, и пулеметчик потянул за деревянные рукоятки и дал короткую горизонтальную очередь; он целил немного ниже, делая поправку на естественное стремление, стреляя по находящейся внизу цели, забирать слишком высоко.
Марк Андерс едва ли почувствовал, как в его спину, словно молот, ударили две пули.
Фергюс Макдональд плакал. Шон удивленно смотрел на него: такого он от этого человека не ожидал. Из покрасневших глаз сержанта медленно стекали слезы, и тот сердито вытирал их кулаками.
– Разрешите кого-нибудь выслать за ним, сэр? – попросил он.
Юный капитан через плечо сержанта осторожно взглянул на Шона.
Генерал ответил едва заметным кивком.
– Думаешь, добровольцы найдутся? – неуверенно спросил капитан.
– Добровольцы найдутся, сэр, – хрипло ответил Фергюс, – парни понимают: он же ради них совершил подвиг.
– Ну хорошо, вышлем, как только стемнеет.
Марка нашли сразу после восьми часов. Он висел на ржавой колючей проволоке в самом конце склона, похожий на сломанную куклу. Фергюсу Макдональду пришлось поработать специальными ножницами, пока его не отцепили, а потом еще час тащили на носилках по грязи и мокрому снегу к британским позициям.
– Он мертв, – сказал генерал Кортни, при свете лампы глядя на истощенное белое лицо.
– Нет, он не мертвый! – горячо заявил Фергюс Макдональд. – Моего мальчика так легко не убьешь.
Локомотив громко свистнул, и колеса его застучали по железным пролетам моста. Над трубой распустился серебристый султан пара, но ветер сразу сдул его в сторону.
Марк Андерс стоял на площадке единственного пассажирского вагона. Схватившись за поручень, высунулся вперед; ветер трепал его мягкие каштановые волосы, летящий из топки горячий пепел жалил щеки, а он, щуря глаза, смотрел вниз, на несущуюся под мостом реку.
Заросшая тростником река, встречаясь с опорами моста, образовывала темные водовороты и несла свои воды дальше, к морю.
– Для этого времени года уровень воды довольно высокий, – пробормотал вслух Марк. И добавил: – Вот дедушка обрадуется, когда увидит меня.
На его губах заиграла нечастая для него улыбка.
В последние месяцы он почти не улыбался.
Локомотив с лязгом и свистом прогрохотал по стальному мосту и вырвался на склон противоположного берега. Сразу же ритм работы его двигателя изменился, скорость замедлилась.
Марк наклонился и подобрал видавший виды армейский ранец. Открыв калитку площадки, он спустился по железным ступенькам и повис, держась одной рукой, над бегущей под ним насыпью из гравия.
Уклон сделался круче, и поезд замедлил ход. Марк сбросил с плеча ранец и, нагнувшись пониже, как можно более осторожно опустил его на гравий. Ранец подскочил и покатился вниз по насыпи, пробиваясь сквозь кустарник, словно удирающий зверек.
Потом Марк свесился к бегущей земле, дожидаясь, когда поезд достигнет вершины подъема; спрыгнул на насыпь и побежал, чтобы не упасть на скользящем под ногами гравии.
Марку удалось удержаться на ногах. Он остановился. Поезд прогрохотал мимо, и на площадке последнего вагона юноша увидел охранника.
– Эй, ты, прыгать на ходу запрещено! – крикнул ему страж, сердито глядя на Марка.
– А ты отправь меня к шерифу! – крикнул в ответ Марк.
Он шутливо отдал охраннику честь; локомотив на противоположном спуске, энергично ворча, наддал скорости, и колеса на стыках застучали чаще. Охранник показал ему кулак, и Марк отвернулся.
От встряски, полученной во время прыжка, снова заболела спина. Шагая по шпалам в обратную сторону, он сунул руку под рубашку и пощупал себя под мышкой. Под лопаткой обнаружил две впадинки и в который раз изумился, как все-таки близко одна из них находится к твердым выступам позвоночника. Мышечная ткань на шрамах была совсем нежной, и прикосновения к ней доставляли даже приятные ощущения; правда, заживали эти раны не один бесконечный месяц. Марк невольно содрогнулся, вспомнив перестук тележки, на которой подвозили перевязочный материал, бесстрастное, почти мужское лицо старшей медсестры, когда она вставляла в открытые пулевые отверстия длинные пробки из ваты; он ярко помнил и нескончаемую пронзительную боль, когда сверкающими нержавеющей сталью хирургическими щипцами с него снимали окровавленные повязки. До сих пор в ушах у него стояло собственное, захлебывающееся от всхлипов дыхание и строгий, равнодушный голос старшей сестры:
– Господи, да что это вы как ребенок, право!
И так все время, день за днем, неделя за неделей, пока он не впал в горячечный, лихорадочный бред, подхватив воспаление пробитых пулей легких, что казалось ему счастливым избавлением от жутких страданий. Мрачная полумгла легочного воспаления продолжалась долго – от стационара Добровольческого медицинского отряда в полях Франции, покрытых перемешанным с грязью мокрым снегом, изрытых колесами карет «скорой помощи» и похоронными командами, непрерывно копающими могилы позади палаточного госпиталя, и до Центрального военного госпиталя под Брайтоном… а потом плавучий госпиталь, несущий его через всю Атлантику домой, в душное пекло тропиков, госпиталь для выздоравливающих с красивыми клумбами и лужайками… О, как долго! В целом год и два месяца. Как раз закончилась эта война, которую люди совершенно неверно стали называть Великой. Боль и бредовое состояние затуманили ход времени, но все равно ему казалось, что прошла целая жизнь.
Да, целую жизнь он прожил в кровавой бойне, среди смертей и трупов, в страданиях и боли, а сейчас как будто родился заново. Вот и боль в спине быстро утихла. Раны почти зажили, радостно думал он и, спускаясь по насыпи, чтобы подобрать свой ранец, старался гнать прочь ужасные воспоминания.
Земельные владения Андерсов находились почти в сорока милях вниз по течению, а поезд пришел с большим опозданием, близился полдень. Марк понимал, что раньше следующего вечера он не доберется; и странное дело: теперь, когда он уже почти дома, острое желание добраться как можно скорее прошло.
Шагал он легко, широким, с детства усвоенным шагом охотника, слегка поддерживая ранец на спине, когда недавно зажившие раны начинали деревенеть; лицо охлаждалось благодатным потом, проступающим сквозь тонкую хлопчатобумажную рубаху.
Он не появлялся здесь много лет, и долгое отсутствие обострило благодарное восприятие мира, по которому он сейчас странствовал; все то, что прежде привлекало мимолетное внимание, теперь казалось новым и вызывало восторг, от которого он давно отвык.
Густые заросли кустарника по берегам реки буквально кишели мириадами живых существ. Стрекозы, словно украшенные драгоценными камешками, сновали туда и сюда, трепеща прозрачными крылышками и спариваясь в полете: мужская особь устраивалась сверху женской, и длинное блестящее брюшко самца, изгибаясь, соединялось с брюшком самки; бегемот с громким шумом и фырканьем выныривал на поверхность реки, смотрел розовыми водянистыми глазками на шагающего по берегу Марка и, шевеля крохотными ушками, снова барахтался, как гигантский черный пузырь в потоке зеленой речной воды.
Марку казалось, что он странствует по древнему Эдему, куда еще не пришел человек; ему неожиданно пришло в голову, что именно этого одиночества не хватало его исстрадавшемуся телу и разуму для того, чтобы окончательно исцелиться.
На ночь он остановился на покрытом густой травой отвесном берегу реки, где почти не было комаров – они летали гораздо ниже. Заросли кустарника, в которых сквозила неуютная темнота, тоже остались внизу.
После полуночи его разбудил леопард: хрипло мурлыкая, хищник шагал по песчаному руслу реки, а Марк лежал и слушал, как он медленно движется вверх по течению, пока звуки не затерялись среди скальных выступов. Но снова уснул он не сразу, все лежал и с удовольствием наблюдал, как приближается рассвет.
За последние четыре года каждый божий день, даже когда выпадали совсем плохие, мрачные дни, он думал о своем деде. Иногда мимолетно, но бывало, что и подолгу, как тоскующий по дому школьник изводит себя мыслями о семье, о родных и близких. Дед являлся его семьей, отца и матери Марк не знал. Дед оставался с ним рядом всегда, с самых первых, еще смутных воспоминаний до настоящего времени, неизменный в своей силе и спокойной мудрости.
Глубокую, острую тоску по деду Марк ощущал почти как физическую боль. Особенно когда в памяти возникал образ деда, сидящего на широкой, обшитой досками веранде в жестком резном кресле-качалке, облаченного в старую помятую рубашку цвета хаки с кое-как пришитыми заплатами, давно не стиранную и с открытым воротом, из-под которого торчал пучок растущих на груди седых волос. Юноша отчетливо видел его шею и отвислые щеки, сморщенные, как у индюка, темно-коричневые от загара и покрытые пятидневной серебристой щетиной, которая блестела, словно мелкие осколки стекла; огромные белые лоснящиеся усы деда, кончики которых, смазанные воском, торчали в стороны, как страшные пики; широкополую фетровую шляпу, низко надвинутую на лоб над яркими и веселыми светло-карими глазами. Шляпа на нем была всегда, пропитанная потом и с засаленной лентой; он никогда не снимал ее, даже за едой, – Марк подозревал, что дед даже спать укладывался в ней в свою большую медную кровать.
Марк помнил, как дед, бывало, застынет неподвижно во время какой-нибудь работы с острым ножом в руке, перекатит табак из одной щеки в другую, и вдруг жвачка летит в старую пятигаллоновую банку из-под сиропа, служившую ему плевательницей. Попадал дед точно с десяти футов, не проронив на пол ни единой капли темно-коричневой слюны, и как ни в чем не бывало продолжал свой рассказ, словно и не случилось никакой паузы. А какие это были рассказы! От его историй широко раскрытые глаза мальчишки едва не выскакивали из орбит, после этих баек он нередко просыпался по ночам и со страхом заглядывал под кровать.
Марк помнил деда в ситуациях и пустяковых, и серьезных: вот он нагибается, берет горсть плодородной земли, пропускает ее между пальцев и вытирает ладони сзади о штаны с гордым выражением на иссохшем, но бодром лице.
– Земля Андерсов – хорошая земля, – приговаривал он, кивая с мудрым видом.
Или стоят они рядом с высоким и худым дедом в густом колючем кустарнике, у него в руках большая и старая винтовка «мартини-генри»; вдруг она оглушительно рявкает, выпустив облако дыма, отдача сотрясает немощное старое тело, и, словно черная гора, на них бросается огромный, обезумевший от крови и ран буйвол.
Четыре года прошло с тех пор, когда Марк видел деда в последний раз и общался с ним. Сначала он писал деду длинные, исполненные тоски по родному дому письма, но дед не умел ни читать, ни писать. Марк надеялся, что какой-нибудь друг или знакомый прочтет ему письма, хотя бы даже сама почтальонша, а потом кто-нибудь напишет ответное письмо.
Надежда оказалась тщетной. Старик был горд и ни за что не позволил бы себе открыть чужому человеку, что он не умеет читать. Тем не менее все эти долгие четыре года Марк продолжал писать по одному письму в месяц. И вот наконец завтра он в первый раз за все это время узнает, как поживает его дед.
Марк снова уснул и проспал еще несколько часов. Проснувшись, в предрассветной темноте развел костер и сварил кофе. А как только рассвело достаточно, чтобы видеть тропинку и собственные ноги на ней, он снова двинулся в путь.
Поднявшись на взгорье, он полюбовался, как из моря выходит солнце. Далеко над морским простором громоздились, словно горы, темные грозовые тучи, а за ними вставало солнце. Тучи горели всеми оттенками красного, от темно-пурпурного до розового, контур каждого облака сиял золотисто-алым ободком, а в просветах пробивались солнечные лучи.
Земля под ногами Марка пошла под уклон; начинались прибрежные низины с заросшими густым лесом долинами и пологими, покрытыми золотистыми травами холмами, и так до самого побережья с бесконечными белоснежно-песчаными пляжами.
Пониже от места, где стоял Марк, через край возвышенности переливалась река, серебристо-белыми языками прыгая по скалам в глубокие и темные, заполненные водой ямы с мощными водоворотами, на поверхности которых огромными кругами ходила пена, словно отдыхая и набираясь сил, перед тем как совершить очередной прыжок вниз.
Вот тут в первый раз Марк заторопился, двинувшись по крутой тропинке вниз, стараясь не отставать от реки, но когда он спустился на теплую, словно пребывающую в глубокой дреме равнину, утро было уже в полном разгаре.
Река здесь стала шире и мельче, она совсем смирила свой нрав и теперь тихо змеилась между открытых песчаных берегов. Здесь уже появились другие птицы, как и звери в лесу и на холмах, но теперь Марк не обращал на них внимания. Удостоив лишь мимолетным взглядом стаи длинноклювых аистов на песчаных отмелях и ибисов с серповидными клювами, чья великолепная стая с неистовыми, безумными, звенящими криками поднялась в воздух, он поспешил дальше.
У подножия огромной смоковницы находилось одно незаметное, отмеченное лишь полуразвалившейся пирамидкой из камней местечко, которое для Марка имело особое значение: здесь проходила западная граница Андерсленда.
Пирамидка была сложена между серых чешуйчатых корней дерева, ползущих по земле, словно некие древние пресмыкающиеся. Марк остановился, чтобы поправить ее. Когда он принялся за работу, с веток дерева, шумно хлопая крыльями, слетела стая упитанных зеленых голубей – они лакомились там горькими желтыми плодами.
Закончив дело, Марк тронулся дальше. Теперь он шагал легко и упруго, расправив плечи, и глаза его сияли новым светом: он опять идет по родному Андерсленду, как нарек эту землю тридцать лет назад его дед. Андерсленд – это восемь тысяч акров плодородного, шоколадного цвета суглинка с густо заросшими сочной травой пологими холмами, земля, которая через четыре мили выходит к полноводной, никогда не пересыхающей реке.
Прошагав полмили, Марк хотел свернуть от реки и через еще один гребень немного срезать путь к дому, как вдруг издалека донесся тяжелый, потрясший землю удар, а за ним в неподвижном теплом воздухе зазвучали далекие человеческие голоса.
Марк озадаченно остановился и прислушался; раздался еще один удар, но на этот раз ему предшествовал треск ломающихся веток дерева и подлеска. Сомнений не оставалось: там валят лес.
Отбросив первоначальное намерение, Марк двинулся дальше по берегу реки. И вдруг из зарослей леса вышел на открытое пространство, которое напомнило ему страшные, опустошенные поля Франции, изорванную, перепаханную и разоренную взрывами снарядов землю.
Группы темнокожих людей в набедренных повязках из белого полотна и в тюрбанах валили тяжелые деревья и очищали от подлеска берег реки. Сначала Марк не понял, кто эти странные люди, но потом вспомнил, что совсем недавно читал в газете статью про рабочих-индусов, которых тысячами завозили из Индии для работы на новых плантациях сахарного тростника. Это были жилистые мужчины с очень темной кожей, и трудились они, как муравьи, по всему берегу реки. Их тут были сотни… Впрочем, нет, Марк прикинул и понял: какие там сотни – тысячи, не считая групп, обслуживающих воловьи упряжки. Большие парные упряжки крупных, сильных животных не торопясь перетаскивали поваленные стволы и укладывали их штабелями, чтобы потом сжечь.
Не совсем понимая, что происходит, Марк свернул от реки и взошел на ближайший холм. И с гребня ему открылся весь Андерсленд, а за ним земля дальше на восток до самого моря.
Везде, насколько хватало взгляда, царило опустошение. Над подобным стоило поразмыслить. Эту землю пустили под плуг, всю без остатка. И лес, и пастбища оказались уничтожены и распаханы, запряженные волами фургоны медленно двигались по открытой земле, одна упряжка за другой, а плодородная, шоколадно-коричневая земля была вся исполосована широкими лоснящимися бороздами. До слуха стоящего на холме ошеломленного Марка доносились крики пахарей и приглушенное щелканье длинных бичей.
Марк сел на первый попавшийся камень и почти целый час наблюдал, как трудятся люди и животные. Ему стало страшно. Он испугался того, что все это могло означать. Дед ни за что не допустил бы, чтобы над его землей так надругались. Он ненавидел и плуг, и топор. Дед обожал стройные деревья, и вот теперь они со стоном и треском падают на землю. Он лелеял свои пастбища, трясся над ними, как скряга, словно желтые травы в самом деле состояли из чистого золота. Он никому и ни за что, пока он жив, не позволил бы закопать их плугом в землю.
Вот почему так испугался Марк. Видит бог, пока его дед был жив, он ни за что не продал бы Андерсленд.
Марк и в самом деле не хотел разрешить свои недоумения. Через силу он заставил себя встать и стал спускаться вниз.
Темнокожие работники в тюрбанах не поняли его вопросов, но энергичными жестами отправили юношу к толстому господину в хлопчатобумажной куртке, который с важным видом расхаживал от одной группы рабочих к другой, то и дело шлепая легкой тростью по черным голым спинам, или останавливался и старательно записывал что-то в большую черную тетрадь.
Он поднял голову и, увидев перед собой белого человека, вздрогнул и принял подобострастную позу:
– Добрый день, господин…
Он хотел было продолжить, но блестящие, жадные глазки его быстро пробежали по фигуре Марка, и он увидел, что перед ним стоит еще совсем молодой человек, небритый, в грязной и изрядно помятой одежде армейского образца. У него не осталось сомнений, что все пожитки этого бродяги умещаются у него в ранце.
– Скажу честно, больше рабочих нам здесь не требуется, – высокомерно обронил он, мгновенно сменив тон. – Я здесь главный.
– Отлично, – кивнул Марк. – Тогда скажите мне, что эти люди делают в Андерсленде.
Этот тип раздражал его, он повидал немало таких в армии: всегда наглые с нижестоящими и всегда готовые лизать задницу вышестоящих.
– А разве не видно? Готовим землю, будем выращивать сахар.
– Эта земля принадлежит мне и моей семье, – сказал Марк.
И снова тон этого человека мгновенно изменился.
– А-а, добрый молодой господин, значит, вы из ледибургской компании?
– Нет-нет, мы здесь живем. Вон там у нас дом. – Марк махнул рукой в сторону холма, за которым находилось его жилище. – И это наша земля.
Господин весело захихикал и покачал головой, словно толстый темнокожий ребенок.
– Теперь здесь никто не живет. Увы! Все это теперь принадлежит компании, – проговорил он и сделал широкий жест рукой, заключая в него весь пейзаж от нагорья до самого моря. – Скоро везде тут будет один только сахар, вот увидишь, парень. Сахар, один только сахар.
Он снова захихикал.
С вершины холма старый дом выглядел как прежде, утопая в деревьях сада: виднелась лишь крашенная зеленой краской крыша из рифленого листового железа. Но как только Марк, шагая по заросшей тропинке, бежавшей мимо курятников, приблизился к нему, стало видно: все оконные рамы вместе со стеклами вынуты, в стенах зияли только пустые темные квадраты, а широкая веранда совсем пуста, даже табуретки не осталось. Пропало и кресло-качалка, а в самом конце веранды провисла крыша, а оторвавшаяся от стены водосточная труба держалась на одном честном слове.
Сад без ухода стоял страшно запущенный, растения посягнули уже и на самый дом. Дед всегда аккуратно подкашивал их и каждый день выметал опавшие листья из-под деревьев и между ровных рядов ульев, стоящих в тени и выкрашенных белой краской. Все ульи тоже кто-то варварски разграбил, разворотив их топором.
В комнатах остались голые стены. Вынесли все сколько-нибудь ценное, даже старую, почерневшую кухонную печку, которую они с дедом топили дровами, все-все, кроме плевательницы на веранде, сиротливо валяющейся на боку: содержимое пролилось на пол, оставив на досках темное пятно.
Марк медленно бродил по пустому дому, переходя из комнаты в комнату; чувство страшной утраты и горя терзало его. Под ногами шуршали листья, занесенные ветром в помещения, а из паутины, развешенной во всех углах и в пустых дверных проемах, множеством сверкающих глазок за ним настороженно наблюдали огромные черно-желтые пауки.
Марк вышел из дома и направился к небольшому семейному кладбищу. На душе у него сразу стало легче, когда он увидел, что новых, свежих могил там не прибавилось. Здесь лежали бабушка Элис, ее старшая дочь и двоюродный брат, которые умерли еще до рождения Марка. Все те же три могилки. Могилы деда здесь не было.
Марк достал из колодца ведро с водой и попил – вода была холодна и вкусна. Потом он поплелся в сад, набрал полную шляпу плодов гуайавы и сорвал зрелый, пожелтевший ананас. На заднем дворе горделиво расхаживал молодой петушок, которому чудом удалось спастись от жадных лап мародеров. Целых полчаса Марк гонялся за ним, пока наконец не сбил камнем с крыши, и тот с отчаянным клекотом, рассыпая перья, упал на землю.
Ощипанный и тщательно вымытый, петушок отправился в котелок над костром, который Марк развел на заднем дворе. Пока он варился, Марку пришла в голову неожиданная мысль.
Он вернулся в спальню деда. В дальнем углу, где когда-то стояла большая медная кровать, опустился на колени и нащупал неплотно прибитую доску. Складным ножом подцепил ее там, где торчал единственный гвоздь, и оторвал.
Сунув руку в образовавшееся отверстие, Марк извлек сначала пачку конвертов, перевязанную сыромятным ремешком. Он быстро перебрал их и убедился, что ни один конверт никто так и не вскрыл. На всех конвертах значился адрес, написанный его резким почерком. Письма были аккуратно сложены в этом тайнике. Но здесь оказались не все письма Марка. Проверив последнее отправление, Марк обнаружил, что штемпель проставлен одиннадцать месяцев назад. Увидев дату, Марк задохнулся, и на глаза его навернулись слезы.
Он отложил пачку в сторону, снова полез в отверстие и достал коробку из-под чая, на крышке которой был изображен портрет бабушки в очках в стальной оправе. Это был своеобразный сундук с сокровищами деда.
Солнце клонилось к закату, и в комнатах быстро темнело. Прихватив коробку и пачку писем, Марк отправился на задний двор. Там он сел на ступеньки кухонного крыльца и открыл коробку из-под чая.
В ней лежал кожаный кошелек, а в нем – сорок золотых соверенов; на одних была голова бородатого прежнего президента Южно-Африканской республики Крюгера, на других – королей Эдуарда и Георга. Марк спрятал кошелек во внутренний карман куртки и в меркнущем вечернем свете стал рассматривать остальные сокровища деда. Пожелтевшие и потертые от времени фотографии бабушки Элис в молодости, свидетельство о браке, вырезки из старых газет с сообщениями и статьями о ходе Англо-бурской войны, дешевые женские украшения, те самые, что и на фотографиях Элис, медаль в подарочном футляре, медаль королевы за Южную Африку с шестью планками, включая планки за Тугелу, Ледисмит и Трансваальские кампании. Здесь лежали табель Марка с отметками, выданный в ледибургской школе, и диплом университетского колледжа Порт-Наталя – эти документы дед ценил больше всего, как и всякий неграмотный, испытывая благоговейный ужас перед учением и написанным словом. Чтобы заплатить за учебу Марка, он продал часть своих призовых быков, а их он ценил очень высоко. Кроме соверенов, все остальное в коробке из-под чая не представляло особой ценности, но для деда эти вещи были дороже всех сокровищ мира. Марк аккуратно сложил их обратно в жестянку и сунул ее в ранец.