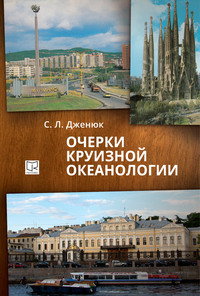Полная версия
Под выцветшим знаменем науки
И дальше о развитии сознания:
«Надо оглянуться на историю. „Доисторический человек“, питавшийся, плодившийся, с примитивным сознанием, с одной биологической системой координат. И затем начинается история, создание общества, перестройка природы (жилища)… Следующий великий этап – создание большой техники (примерно XVI–XVII вв.). Система координат общее и шире. Дальше? Универсальная позиция физика-философа. Не конец ли это, не самоуничтожение ли это сознания? До этого еще очень далеко» (29.07.1936).
В следующие годы Вавилов еще не раз возвращается к феномену сознания и его эволюции, приходя и к такой мысли:
«Похоже на правду, что широкое сознание такая же неудача кухни природы, как ихтиозавры и птеродактили, и оно, по-видимому, рано или поздно исчезнет. Но все же удивительно, что такая гипертрофия мозга могла произойти и, следовательно, может существовать несравнимо большая гипертрофия – сознание, обнимающее несравнимо больше и несравнимо иначе» (10.02.1941).
Здесь вольно или невольно промелькнуло представление о некоем замысле природы, в реализации которого могут быть удачи или неудачи. Но несколько позже Вавилов подводит важный промежуточный итог:
«Люди, по-видимому, до сих пор не поняли самого главного о мире и о себе самих. Три мировоззрения: примитивный материализм, религиозная схема, полностью проектирующая человеческие отношения на Вселенную, и скептический агностицизм, отказ думать о мире, приводящий либо к безудержному опусканию на дно, либо к самоубийству. Другого, в сущности, не было, много только претензий и ярлыков других» (05.05.1941).
Для будущего президента АН такой вывод, в котором игнорируется диалектический материализм, выглядит непозволительным. Но удивляет и то, что немногим раньше Вавилов довольно резко оценил статью Эйнштейна (я ее не читал, но из того, что знаю об Эйнштейне, представляю, что она была примерно о том же):
«В „Science News Letter“ (21 Sept 1940) статья Эйнштейна „Personal God Concept Causes Science-Religion Conflict“. Верх плоскости и наивности. Неужели мозг так быстро и безнадежно вянет?» (25.11.1940).
В те годы Вавилов не раз обращался к теме умственной деградации престарелых ученых (к этому мы еще вернемся), и, возможно, 61-летний Эйнштейн показался подходящим примером.
Дальше есть еще много разрозненных записей о случайности и хрупкости сознания во Вселенной, об иерархии сознаний, среди которых человеческое необязательно должно быть высшим, о зависимости каждого индивидуального сознания от собственного организма и внешних условий. Вавилов не свел это в целостную личную философию, и вряд ли стоит пытаться сделать это за него. Применительно к событиям в мире и окружающей повседневности он приходит к полному пессимизму и мизантропии:
«Земля с жизнью, с людьми кажется такой же ничего не значащей случайностью, как рассыпанный сахар, на который слетелись мухи. Кто-нибудь сметет веником, не останется ни сахара, ни мух. И такой кажется вся „история“, Гитлеры, не говоря уже о людях, об Иван Ивановичах.
А вместе с тем совсем не ясно, почему вся галактика важнее и интереснее этого рассыпанного сахара с мухами. И галактика эта, по-видимому, такая же случайность» (04.06.1941).
«Пока есть независимые жизненные стимулы: самолюбие, любовь, голод, любовь к вещам, собственничество – жизнь идет сама собой, а „философия“ – только тоненькое облачко, мигом разлетающееся от жизни. Но вот сейчас у меня страшное. Постарел, все умерли, Николай хуже, чем умер, остались Олюшка и Виктор. Честолюбие испарилось, и так ясна его пустозвонность, прочие инстинкты совсем замерли, и вот я лицом к лицу с „философией“ с очень ясным и широким сознанием» (12.02.1942).
Философию как науку Вавилов ставил невысоко или даже вовсе не признавал:
«Странная судьба философии. Гегель, Кант, Соловьев – столько труда, мысли, трудно читаемых и понимаемых книг, и ни за что это не зацепилось. В естествознании даже микроскопические мелочи становятся кирпичами, на которых растет техника, наука, все входит в жизнь. В философии в лучшем случае судьба хороших художественных произведений.
Ни для кого они не обязательны. Одна эстетика. Что же это – псевдонаука? Чистое логизирование вроде шахматной игры? Неужели нельзя построить философию общеобязательную: как естествознание и математика? По-видимому, нельзя, за 3000 лет этого сделать не смогли» (11.05.1943).
На том отрезке жизни, когда я всерьез пытался обогатиться философскими знаниями, у меня сложилось такое же впечатление. Еще на первом курсе хотел разобраться в философии Канта (как раз в те годы выходили тома «Философского наследия» с мировой классикой, не угрожающей марксизму-ленинизму). Тогда я пришел к выводу, что результат будет одним и тем же, если вместо полутысячи страниц Канта прочитать 30 страниц предисловия к нему или, еще лучше, 1-2 страницы учебника. Все многомыслие Канта легко в них укладывается. Что же касается эстетики и художественности философских классиков от Платона до наших дней, то впечатления от них того же порядка, что от «Слова о полку Игореве» или рождественских богослужений – лично для меня никакие, но допускаю, что кому-то нравится.
По поводу философской классики позволю себе отклониться еще дальше от главной темы и процитировать автора, никак с ней не связанного, – Веру Ивановну Засулич (1849-1919). Другого случая может и не оказаться, а пропустить такое высказывание жалко. Напомню себе и читателю, что в ранней молодости она стала революционеркой, была осуждена за контакты с Нечаевым и около четырех лет провела в заключении и ссылке. Несколькими годами позже покушалась на жизнь петербургского градоначальника за грубое нарушение прав человека (не своих). Суд присяжных под председательством великого юриста А. Ф. Кони ее оправдал, и этот случай некоторые авторы считают отправной точкой действий либеральной интеллигенции по разрушению российского государства. После этого Засулич эмигрировала в Швейцарию, где занималась литературным трудом и стала соратницей Плеханова в руководстве заграничной социал-демократией. На последние 16 лет ее жизни советскому энциклопедическому словарю хватило такого же количества печатных знаков (без пробелов): «С 1903 меньшевичка».
Так вот, занимаясь за границей самообразованием, она писала в 1889 году своему коллеге-террористу С. М. Степняку-Кравчинскому:
«Это клеветы одни, будто я легче Канта ничего не читаю. Я последнее время все больше новую историю (19-го века) читаю и так увлекаюсь 30-ми и 40-ми годами, что Павел [П. Б. Аксельрод] даже злится. А Гегеля (не Канта) все-таки очень люблю. Не логику – я ее не очень понимаю, а историю философии, эстетику и философии истории можно 100 раз прочесть с удовольствием, столько в них мысли. Я-то всего еще один раз прочла, впрочем»[3].
Здесь подкупают и смущенная интонация (при таком-то жизненном опыте), и искренняя вера в силу философских теорий, и тонкое разграничение между скучноватым Кантом и занимательным Гегелем. Если в наши дни и остались увлеченные читатели Гегеля, то уж точно не среди политиков, будь то левых или правых.
Вернемся к философским взглядам Вавилова. Влияние марксистско-ленинского учения в его «Дневниках» не прослеживается. Карл Маркс не упомянут вообще, Ленин – только в связи со статьей «Ленин и современная физика» и участием Вавилова в торжественных заседаниях (тогда главной ленинской датой считалась годовщина смерти 21 января, но в мое школьное время на уроках пения уже разучивали: «Тих апрель, в цветы одетый, а январь суров и зол. Он пришел с весенним цветом, в ночь морозную ушел»).
Энгельс упоминается только один раз по курьезному поводу:
«В воскресенье купил новое издание „Диалектики природы“ Энгельса за 3 р. 15 коп. А огурец на базаре (это в августе!) стоит 4 руб. Поистине – диалектика природы» (18.08.1942).
Что-то похожее могу вспомнить и я – как после высвобождения цен в январе 1992 года купил двухтомник Алданова по цене даже не стакана плохого кофе в кафетерии при булочной, а только осадка на дне этого стакана.
Отношение Вавилова к исторической науке и к историкам было резко отрицательным, что для того времени выглядит вполне справедливым:
«Встретился за эти дни с „историками“ А. И. Андреевым, Дебориным, Тарле, Тихановым М. А. Какая же это наука. В честном случае сборник „случаев“ или произвольных схем, в нечестном – просто способ проституировать. Историки, видимо, даже не имеют понятия о флуктуациях и статистике. Каждый выбирает флуктуации, подходящие под его схему. Представить себе, что так бы делали, например, изучая броуновское движение!» (20.09.1942).
Справедливости ради надо отметить, что политикой Вавилов глубоко не интересовался, а иногда проявлял наивность не только по нашим представлениям, но и в сравнении со своими современниками (например, Ландау). Старую Россию он воспринимал резко отрицательно:
«Прочел „Записки В. Н. Ламздорфа“ за 1891-1892 гг. 1891 – год моего рождения. Удушливая атмосфера, глупо, серо и дико. Необходимость революции доказывается как простая геометрическая теорема» (18.08.1939).
Но революцию сильно идеализировал:
«О, если бы не гримасы, Лысенки и прочая дрянь, можно бы мир действительно повернуть. Революция-то на самом деле сделана, и в железных она руках и стоит она прочно-препрочно. Но вот культурный гений нужен. Гете, Леонардо, Ньютоны. Нужней всего вдохнуть благородную душу в это всемогущее тело» (19.03.1940).
Не будучи знаком с первым томом дневников, не могу судить, менялись ли политические взгляды Вавилова. Можно не сомневаться в искренности этих высказываний, как и тех, которые будут приведены ниже. В дневниках есть сколько угодно записей, сильно компрометирующих, если бы они попали в плохие руки (наверное, в семье Вавиловых, в отличие, например, от Льва Толстого и Софьи Андреевны, в этом отношении было полное доверие). Другое дело, что какие-то темы и личности были запретными даже наедине с собой. Ни Троцкого, ни Бухарина, ни деятелей эмиграции здесь не встретить. Правда, о «Ленинградском деле» запись сделана:
«Тяжелое чувство неуверенности в каждом шаге. Кругом неожиданно летят магнаты, Вознесенские, Попковы, обстреливают с „оргвыводами“: „космополиты“» (22.03.1949). Но с этими людьми он постоянно общался по должности, упоминал эти встречи в дневнике, так что умалчивать об их судьбе уже не было смысла.
Международные и военные события отмечались в дневнике регулярно, но редко со своими комментариями или эмоциональными оценками. После Сталинграда Вавилов чуть ли не каждый месяц недоумевает, что немцы все еще не капитулируют, хотя исход войны уже ясен. Возможно, по предыдущему историческому опыту нормальным исходом войны представлялось как раз заключение мира без полного уничтожения побежденной стороны. Интересно, как сдержанны заметки о событиях в последние дни войны:
«Взятие Берлина, самоубийство Гитлера и прочих, Сан-Франциско» (04.05.1945).
«Послезавтра в Ленинград. Страшно. Голова, душа пуста. Нужна „великая научная идея“.
Война почти кончилась. Русские в Берлине, немцы частями капитулируют. Начинается новая эра на свете» (06.05.1945).
«День победы. Об этом узнали на Ленинградском вокзале. А в международном вагоне „Стрелы“ восьмидесятилетний М. А. Шателен едет с поповского торжества и рассказывает питерские сплетни» (09.05.1945).
«Поповское торжество» – это 50-летие изобретения радио А. С. Поповым (понятно, что не Маркони), которое пришлось на 7 мая и с 1945 года стало красной датой календаря – Днем радио. Сохранился ли этот день в современном календаре, я как-то не уследил.
Справедливости ради приведу еще фрагмент большой записи за тот же день, свидетельствующий о душевном состоянии Вавилова:
«Блистательная победа, поворот исторических судеб. Нужны силы на помощь людям, родной стороне и после этого умереть. Отрава физического объективизма, делающая все условным, эфемерным, как картина на бумаге или восковая статуя. „Человек, потерявший координаты“ – это довольно правильно определяет мое состояние последнее время» (09.05.1945).
Вавилов, безусловно, верил в торжество коммунистических идей, хотя не строил догадок, когда и как это произойдет, и не нападал на капиталистический мир ни вообще, ни по конкретным поводам. Могла действовать и обстановка торжественных заседаний, где человек в президиуме чувствует себя не так, как в зале (знаю по собственному скромному опыту).
«Был в Большом театре на октябрьском заседании. Речь Г. М. Маленкова. Вихрь. Ясная победа коммунизма. В сущности так ясно сказано, старому миру конец пришел. Непобедимое знамя революции. Начало новой истории для всего мира» (06.11.1949).
Вскоре было еще одно празднование:
«Сталинский юбилей стал очень внушительным политическим событием. От китайцев до финнов. Это – сила непобедимая. Коммунизм близок к мировой победе» (23.12.1949).
Как тут не вспомнить шуточку о китайско-финской границе, которая вошла в обращение в брежневские годы и остается актуальной в наши дни. А заодно припомнить и Тараса Шевченко:
«Од молдаванина до фінна на всіх язиках все мовчить, бо благоденствує».
То, что мы теперь называем глобальными проблемами, в дневниках не упоминается. О демографическом кризисе тогда вряд ли думали, хотя на кривой роста населения Земли даже мировая война стала лишь зазубриной, своего рода статистической погрешностью. Истощение ресурсов еще не стало актуальным, а об изменениях климата, тем более в теплую сторону, вообще не думали. С другой стороны, не упоминается и сталинский план преобразования природы, а достижения Мичурина – только однажды, в связи с выполнением нелепого задания:
«Вчера до ночи в с. Коломенском, теперешнем колхозе „Огородный гигант“ – открытие колхозного лектория. Мичуринские доклады. Канонизация Мичурина и Лысенко идет вширь и вглубь» (08.10.1948).
При такой напряженности делового общения – Академия, институты, редакторство, общество «Знание», множество мероприятий от Колонного зала до «Огородного гиганта» – личный круг Вавилова был предельно узок. Он это постоянно отмечает, как мы уже видели выше: «Остались Олюшка и Виктор». Жена, которую он неизменно называет Олюшкой, сопровождала его во всей повседневной жизни, но едва ли была помощницей и секретарем в научных делах. Дневник не оставляет сомнений в их душевной близости, но никакие разговоры Вавилов не пересказывает (в его записях вообще почти нет прямой речи). Очевидно, она была из интеллигентной среды. Ее сестра была замужем за архитектором В. А. Весниным, и, таким образом, президент АН СССР и ответственный секретарь Союза архитекторов несколько лет состояли в близком родстве.
Сын Виктор прожил вместе с родителями не так много времени. В молодости у него были необычные повороты судьбы. Он родился в 1921 году и успел поучаствовать в двух войнах – финской и начале Отечественной. В 1942-м его направили в Военно-воздушную академию, а после войны командировали в Нью-Йорк в составе советской делегации при Атомной комиссии ООН. Такой опыт не помешал ему в дальнейшем скромно возобновить учебу на физфаке Ленинградского университета, потом пройти аспирантуру и уже после смерти отца сделать успешную научную карьеру с получением докторской степени, государственных премий и правительственных наград.
То, что тетради Вавилова сохранились в семье и в конечном счете увидели свет, – очевидно, заслуга жены и сына. Можно представить себе, как тщательно был собран и просмотрен служебный архив президента АН, чтобы потом попасть в «свободный доступ кому положено» (эта великолепная формулировка промелькнула в газетном отчете об Арктическом форуме – 2015 в Петербурге и достойна цитирования при каждом удобном случае).
Еще в семье жила престарелая теща Вавилова, физически здоровая, но страдающая старческим слабоумием. На ее примере Вавилов несколько раз обращался к мысли о невозможности бессмертия души, как его понимает религия.
В послевоенные годы Вавилов возобновил юношескую дружбу с дальним родственником, соучеником по коммерческому училищу в Москве. Об этом человеке он тепло отзывается, но понятно, что с ним не обсуждались ни мировые проблемы, ни академические дела. О друзьях из числа коллег-ученых речь нигде не идет, и жили Вавиловы довольно закрыто. Почти нет упоминаний о выходах в гости и устройстве приемов у себя. В поздние годы это могло быть связано с дистанцией между президентом АН и остальными учеными, а в более ранние – возможно, и с боязнью общения с братом «врага народа».
Приведу большую выписку, в которой смыкаются несколько часто повторяющихся сюжетов дневника:
«Каждый день часов 12 непрерывная череда заседаний, разговоров, телефонных звонков простых и вертушечных. Без настоящих помощников. Люди кругом: „Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей“. Оглядываюсь на прожитую жизнь. Как мало настоящих людей встречалось. За всю жизнь десятка два. Остальные – зверьки примитивные. Вчера такой разговор с Н. С. Державиным. И смешно и противно. Или Е. А. Толмачева с длинными сплетнями о В. И. Павлове. Доносы о „псаломщике“ Бельчикове. Помои.
Дома ходит древняя Вера Павловна, потерявшая память и разум. Страшная картина жизни с уходящим сознанием. Воплощенное доказательство беспочвенности мечтаний о бессмертии и о вторичности сознания.
Здесь на даче бегает маленький Сережа с медленно нарождающимся сознанием, еще без памяти, с репродукционным автоматизмом.
Между этими крайностями – я. Сознание налицо, но сознание, вырывающееся за дозволенные пределы, оглядывающееся само на себя, пытающееся тщетно оторваться от самого себя, ото всего, и „объективно“ на все взглянуть.
Проблема сознания – это основное и наиболее интересное, в чем хотелось бы разобраться перед смертью» (13.05.1950).
Я не вычеркнул из этой цитаты случайно упомянутых деятелей науки – все-таки интересно, кто мог вызвать у Вавилова такой приступ мизантропии. Бельчиков – третьестепенный и теперь уже, наверное, забытый литературовед. Толмачева – дочь и биограф А. П. Карпинского. На то время ей было 75 лет, так что выгнать ее из кабинета было бы неудобно. В. И. Павлов – сын великого Ивана Петровича, одно время работавший его секретарем, доктор физико-математических наук. Он был на 10 лет моложе Толмачевой, а какие сплетни, важные для президента АН, о нем можно было сообщить, мы уже вряд ли узнаем. И наконец, Н. С. Державин, еще в одной записи названный «старым наглецом», – академик, филолог, специалист по болгарскому языку. Чем-то он так досадил Вавилову, что подпортил ему последний зимний отдых в Барвихе:
«Ходил около двух часов по свежевыпавшему густому снегу… Перед глазами образы самые неожиданные, Н. С. Державин, какие-то чиновники из ведомств и не встает родное, свое, привычное: мать, отец, Николай, Лида, Олюшка, Виктор» (27.12.1950).
Переходя от личного круга общения к профессиональному, надо вернуться к отношениям Вавилова со старшим братом. Нет сомнений в их взаимной привязанности и душевной близости. Они выросли в большой благополучной семье, при традиционной отцовской строгости и некоторой дистанции между старшим и младшим братом.
Исследователь параллельных биографий не может пройти мимо братьев Вавиловых за время от их прихода в большую науку в начале 1920-х годов до слома жизни Николая Вавилова в августе 1940-го. По отдельности о них написали многие авторы. Сергей Вавилов был хорош как образец советского ученого, ради которого не надо было сильно отклоняться от исторической правды. Николай Вавилов больше интересовал тех, кому тема сталинского террора была важнее, чем открытие центров происхождения культурных растений. В этом нет ничего плохого – Галилея мы тоже знаем прежде всего как жертву инквизиции, а спутники Юпитера мог открыть и кто-нибудь другой.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Вавилов С. И. Дневники. 1909-1951: в 2 кн. Кн. 2. М.: Наука, 2012. С. 75.
2
Сахаров А. Д. Воспоминания. М.: Альфа-книга, 2011. С. 84.
3
Засулич В. И. Избранные произведения. М.: Мысль, 1983. С. 13.