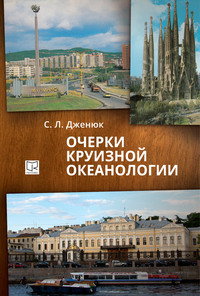Полная версия
Под выцветшим знаменем науки
В советской литературе эту тему, похоже, не затрагивали, и даже в свободной от цензуры книге Марка Поповского «Дело академика Вавилова» гибель Олега не упомянута. Но несколько лет назад вышла статья Б. Альтшулера и Ю. Вавилова с подробным разбором событий 1946 года («Новая газета», 06.08.2010). По совокупности косвенных данных можно с практической уверенностью сделать вывод, что это было убийство под видом несчастного случая (наподобие того, как было с Михоэлсом, хотя авторы такой аналогии не проводят). В походе туристов-лыжников МГУ Олег Вавилов, не будучи альпинистом, соблазнился возможностью сделать самостоятельное восхождение в паре с инструктором (одновременно сотрудником НКВД). Когда он якобы сорвался со склона, искать его не стали и сочли пропавшим без вести. В том же году комиссия по альпинизму Госкомитета по физкультуре и спорту признала поведение руководителя группы и инструктора преступным, а всей группы – недостойным (в группе среди прочих был будущий академик Шафаревич). Это разбирательство осталось без последствий, а узнал ли о нем Вавилов – неизвестно. На фоне других массовых и индивидуальных трагедий того времени это могло быть для него уже не так важно.
Последние шесть лет Вавилов провел в постоянных перемещениях, но почти исключительно в «Красной стреле». Интересно, что президентские обязанности практически ни разу не потребовали выезда из Москвы, кроме как в Ленинград. Отсутствие зарубежных командировок, даже в страны народной демократии, еще поддается объяснению. Труднее понять, как можно было руководить Академией без посещений ее филиалов в республиках или хотя бы в Свердловске (о Кольском филиале смешно и говорить, академик Ферсман и его преемник Белянкин в «Дневниках» ни разу не упомянуты). Возможно, такой стиль руководства тогда считался нормальным, а пример подавал сам Сталин. Если не ошибаюсь, в Ленинграде он последний раз в жизни побывал после убийства Кирова, а города, названные в его честь, вообще не посетил ни разу (к слову, как это еще никто не предлагает вернуть Донецку историческое название – Сталино?). Но на Кавказе он отдыхал подолгу.
У Вавилова местом отпуска в первые три послевоенных лета был знакомый санаторий «Узкое», а в 1948 году он получил академическую дачу в Мозжинке. Это стало его любимым местом не только летом, но и для поездок на выходные в течение всего года. Помимо этого, он мало куда выезжал. Интересное маленькое путешествие было совершено в августе 1947 года, одновременно продолжение отпуска и рабочая поездка. С женой, сыном и невесткой они отправились на маленьком пароходе (в прошлом речной яхте Николая II) в Борок на Рыбинском водохранилище. Там прошли две недели в прогулках и небольших экскурсиях, с посещением биостанции и усадьбы Н. А. Морозова. «Завидно этой жизни „философа“ среди природы, берез, елей, сов, волков, недавно разорвавших какого-то „Шарика“, лосей. Хочется спрятаться сюда с книгами, лабораторией и незаметно исчезнуть в лесу, как умер Н. А.» (06.08.1947). Но в общем личность этого народовольца, выдающегося дилетанта в разных областях знания (как можно судить по литературе), почти не вызвала интереса у Вавилова, хотя это в своем роде еще одна не менее странная жизнь (жаль, что сам Морозов довел свои мемуары только до предреволюционных лет). Годом раньше, перечисляя назойливых посетителей, Вавилов упомянул его вдову: «К. А. Морозова, желающая пользоваться его имением, лошадьми и посевом» (18.08.1946). Но она пережила мужа ненадолго, и позже при перечислении текущих склочных дел упоминается «дележка наследства Н. А. Морозова» (06.07.1948). Ближе к нашему времени из этого наследства хотели сделать «ноосферное поселение» (см. «Очерки…», с. 32–33).
Были еще две короткие поездки в 1949 году: Ленинград – Псков – Пушкинские Горы на юбилейные торжества (это для Вавилова действительно было праздником) и из Москвы в Рязань на открытие памятника И. П. Павлову: «Бронницы, Коломна, допетровские и ампирные церкви, как осколки драгоценностей в комиссионном магазине… Памятник – очень средний, ремесленный» (01.10.1949). В общем, по сравнению с «Пятью континентами» старшего брата совокупность путешествий Вавилова за всю его жизнь не очень впечатляет.
Последние шесть лет «Дневников» – хроника академических и внешних событий разной важности, часто только в форме перечисления, вот пример:
«История с академстроевскими домами. Нелепый разговор с В. А. Малышевым по поводу изобретений Знойко. Письмо Генри Дэйлю. Последствия ашхабадского землетрясения. История с Ландсбергом и Фридой Соломоновной» (26.12.1948).
В этом частном случае относительно Знойко дан подробный комментарий, но письмо Дэйлю осталось без сноски, а в именном указателе такой фамилии нет. Это серьезный промах, поскольку сюжет действительно важный. Только при внимательном просмотре выясняется, что Генри Дейл, он же Дэль (но не Дэйль), – президент Лондонского королевского общества, нобелевский лауреат, отказавшийся от почетного членства в советской академии в знак протеста против гонений на генетику. Он упоминается еще в двух записях, но существо дела Вавилов не раскрывает ни разу.
О Фриде Соломоновне комментаторы сообщили только, что это Ф. С. Ландсберг, жена Г. С. Ландсберга. Для меня Ландсберг – автор учебника, по которому мы проходили физику в Ленинградском гидрометеорологическом институте. Были еще Фриш и Тиморева, Путилов и Фабрикант. Похоже, я и теперь мог бы пройти переаттестацию по физике в духе вузовского анекдота:
«Вопросы на положительную оценку: „Кто автор учебника, по которому вы пришли сдавать экзамен? Какого цвета обложка у этого учебника?“ Негодующий шепот в заднем ряду: „Вот валит, гад!“».
Что такое случилось у Фриды Соломоновны и Григория Самуиловича, сопоставимое с последствиями ашхабадского землетрясения, комментаторы умалчивают. Но при всех моих мелких придирках комментарии и указатель в «Дневниках» очень подробны и компетентны.
Академическая рутина осложнялась для Вавилова тем, что он сам писал свои статьи и выступления к многочисленным конференциям, сессиям, юбилеям, похоронам. «Пишу, как старый поп, „надгробные слова“, слово по случаю 350-летия Декарта, рассуждение о вовлечении разных наук в связи с ураном» (08.04.1946), и о том же в День Победы: «С ужасом читаю в „Вестнике Академии“ в каждом № свои председательские, загробные речи, газетные статьи. Где же моя душа? Где мое „творчество и созерцание“?» (09.05.1946).
[Наконец-то и я в чем-то приблизился к Вавилову. Когда под «Вестником РАН» подведут черту (возможно, уже скоро), в итоговом авторском указателе я буду упомянут как соавтор двух статей одного из академиков РАН. Есть еще три статьи академика, из них одна была им в значительной части надиктована, зато две другие, как сказал бы Хлестаков, «уж точно мои»].
За годы президентства самыми тяжелыми для Вавилова были август-сентябрь 1948 года с триумфом Лысенко на сессии ВАСХНИЛ, последующим заседанием Президиума АН с признанием ошибок в биологической науке, а потом еще и чествование Лысенко по случаю 50-летия. «Хотелось бы дожить последние годы с тихой думой и с лицом, обращенным ко Всему, а не к Лысенке» (21.08.1948).
Еще один важный эпизод этих лет – персональный прием у Сталина 13 июля 1949 года. Тема «Вавилов и Сталин» слишком значительна, чтобы мне здесь претендовать на ее раскрытие, но к ней стоит обратиться хотя бы ради тех читателей, которые не увидят «Дневники» в оригинале.
Вавилов видел Сталина много раз на сессиях Верховного Совета, правительственных совещаниях, заседаниях Комитета по Сталинским премиям, отмечал эти случаи в дневнике, но о словесном общении написал только дважды: кроме беседы 1949 года был незначительный обмен репликами как раз по поводу присуждения премии. И еще одна встреча, самая важная в биографии Вавилова, после опубликования «Дневников» может быть поставлена под сомнение. Это был разговор по поводу выдвижения Вавилова в президенты АН, и Марк Поповский подробно его пересказал со ссылкой на сообщение К. И. Барулина, брата жены Николая Ивановича (источник, не самый близкий к событиям и лично к Вавилову, если учесть, что с Е. И. Барулиной он общался после войны очень мало, а ее брат в «Дневниках» не упоминается вовсе). Позже Симон Шноль пересказал эту историю короче и более эмоционально (уже без прямой ссылки на источник, но указав книгу Поповского в примечаниях к очерку о Вавиловых). Приведу его версию:
«Вскоре после войны, в июле 1945 года, С. И. Вавилова вызвали в Кремль к И. В. Сталину. Сталин предложил ему стать президентом Академии наук СССР. С. И. был потрясен этим предложением. Он спросил: что с братом Николаем? И Сталин разыграл (палачи любят театр!) спектакль: он позвонил по телефону и спросил: „Лаврентий (Берия), что там у нас Николай Иванович Вавилов? Умер? Ах! Какого человека не уберегли!“ С. И. стал президентом АН СССР».
При всем уважении к обоим историкам науки приходится предположить, что здесь они поверили устной легенде. Во-первых, сам Вавилов точно изложил предысторию своего избрания. Во-вторых, что особенно важно, из дневника следует, что в 1943 году семью официально известили о смерти Н. И. Вавилова. В-третьих, трудно поверить, что вождю можно было открыто задать такой неприятный вопрос, а Сталин показал бы, что принимает важнейшие государственные решения, не владея всей информацией.
Победив в этом заочном диспуте, попробую поспорить с самим Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Судя по его «Воспоминаниям», личная встреча с Вавиловым у него была только одна – аспирант ФИАНа Сахаров был на приеме у директора института и одновременно президента АН по поводу устройства в академическую гостиницу. Но Сахаров, очевидно, имея в виду зарубежных читателей, дал небольшую справку о Вавилове, показав его с самой лучшей стороны. Нашлось здесь место и сюжету о президентстве, причем Сахаров указал свои источники со всей подробностью:
«Недавно Я. Л. Альперт, один из старейших сотрудников ФИАНа, рассказал мне (со слов Леонтовича, а тот якобы слышал от Вавилова) следующую историю. Вавилову, возможно, самим Сталиным или через кого-то из его приближенных, было сообщено: есть две кандидатуры на пост президента Академии – Вы, а если Вы не согласитесь – Лысенко. Вавилов просидел, обдумывая ответ, всю ночь (выкурив при этом несколько пачек папирос) и согласился, спасая Академию и советскую науку от неминуемого при избрании Лысенко ужасного разгрома… По версии, сообщенной Е. Л. Фейнбергом, альтернативным кандидатом в президенты был А. Я. Вышинский. Пожалуй, это правдоподобней – и еще страшней!»[2].
Здесь я получаюсь пятым участником информационной цепочки, но и против этой версии есть несколько возражений, каждого из которых по отдельности может быть достаточно. Вавилов был вполне опытен в аппаратных делах и вряд ли стал бы раскрывать такие служебные тайны, будь то по свежим следам или впоследствии (он ведь оставался президентом до конца своих дней, и при нем еще были живы все возможные участники сюжета: Сталин, Берия, Маленков, Лысенко, Вышинский). Близких друзей среди ученых у него не было, а Леонтович в «Дневниках» упомянут всего однажды:
«Скандал с Леонтовичем, который, как всегда, у меня лежит на сердце отвратительной тяжестью» (25.05.1947).
Не очень понятно, но это уж точно не говорит о доверительных отношениях между Вавиловым и Леонтовичем. Трудно поверить и тому, что Лысенко могли рассматривать как орудие шантажа по отношению к Вавилову. «Незаменимых людей нет» – если Вавилов откажется, то ему незачем знать о других кандидатурах. Кроме того, Лысенко не сумел бы разгромить всю советскую науку, а в отношении биологии он в конечном счете сделал все, что мог, независимо от занимаемого поста. Что касается Вышинского, то по условиям того времени он мог оказаться приемлемой кандидатурой. По своей инициативе он не стал бы вмешиваться в естественные науки (гуманитарные и так были зажаты до предела), а держать в страхе физиков-атомщиков было кому и помимо Вышинского.
Отсюда следует, что такие, как я, обладатели «Дневников» пользуются незаработанным преимуществом перед вавиловскими биографами XX века. У них могли быть десятки, если не сотни источников, а меня один, но главный. Наверное, этот случай не уникален.
Вернемся к событию 13 июля 1949 года. Вавилов двумя днями позже, уже в Ленинграде, записал подробный конспект этой встречи – «для истории» и, очевидно, в силу важности обсужденных вопросов для последующей работы. Приведу эту запись выборочно:
«… 2) И. В. Сталин говорит о плохой работе геологов. Я подтверждаю… Указание на вредительство в геологии (академик Григорьев). „Вредительство или нет, а на три года затормозили работу. Сообщили обо всем простые люди, рабочие. А Академия ничего не знала“.
… 6) Дальше говорю о том, что умерло 17 академиков. Прошу разрешить „довыборы“ 20 академиков. Т. С. спрашивает: „Можно ли исключать академиков, которые не работают?“ Говорю, что по уставу нет, исключаются только за антисоветскую деятельность. Указывается, что хорошо бы такую статью ввести.
… 11) Перехожу к делам Большой Советской Энциклопедии. Прошу разрешения перепечатать на слово В. К. П. „Краткий курс“. Т. Сталин смеется, не согласен, говорит, что было бы достаточно перепечатать 1/20 книги, да и вообще не стоит, тем более что есть время. Я внесу на съезде партии предложение переименовать партию в Коммунистическую Советскую Партию, будет не на букву „В“, а на букву „К“. Хохочет.
12) Т. Сталин одобряет макет тома, соглашаясь с моими доводами в его пользу; удивляется, что мог даже возникнуть вопрос о непомещении „отрицательных“ лиц вроде Гитлера. „Ну и редакторы. А Наполеон, ведь он же был мерзавцем“. Точно так же считает возможным заказывать статьи раскритикованным авторам вроде Варги.
… 13) Спрашивает о О. Ю. Шмидте. Говорю, что успешно занимается теорией солнечной системы. „Почему не выбрали в президиум?“ Говорю, что болен. „Он тогда обнаглел, сел на плечи Президенту (Комарову)“.
14) Говорю о необходимости пенсий ученым (50 процентов). Удивляется, почему до сих пор не так» (15.07.1949).
По поводу пенсий мы продолжаем удивляться до сих пор (на Украине еще в 1990-е ввели «научные пенсии» на уровне государственных служащих), а на других пунктах следует остановиться подробнее. Относительно геологов в комментарии к «Дневникам» сказано, что речь шла о «деле красноярских геологов», которых обвинили в сокрытии урановых месторождений. Арестовали около 30 человек, никого не расстреляли, но приговорили к большим срокам. Реально их освободили через четыре года (о чем уже не узнали ни Сталин, ни Вавилов), но шесть человек, в том числе директор Геологического института АН И. Ф. Григорьев (1890-1949), умерли в заключении.
Исключать из Академии за бездействие так и не стали (неудивительно, что академиков теперь так много). К Шмидту и Комарову можно будет вернуться ниже, а пока надо задержаться на обсуждении вопросов БСЭ.
Эти вопросы почему-то особенно развеселили Сталина («смеется», «хохочет») и дали ему возможность проявить и скромность (относительно «Краткого курса»), и великодушие (относительно Гитлера). Возможно, он вспомнил о примере Петра Первого, поднявшего заздравный кубок за побежденных шведских генералов. По умолчанию подразумевалось, что такой взвешенный подход к истории не распространяется на внутренних врагов народа, которые в этом смысле хуже Гитлера. Нет сомнения, что Сталин помнил о Николае Ивановиче (не забыл же он о склоке между Комаровым и Шмидтом) и что Вавилов это понимал. Но запись в дневнике сделана протокольно, без эмоций. Воздержимся от них и мы. Годом позже Вавилов записал:
«Смотрел листы Энциклопедии. Статьи по борьбе за существование, ботанике. Лысенко. Боже мой, как это грустно и стыдно. Имени Николая нет нигде. Это лучше» (07.08.1950).
В сталинском, «синем», издании энциклопедии Гитлер есть (какая же энциклопедия без Гитлера?) Нет там ни Н. И. Вавилова, ни академика Надсона, ни тем более участников всевозможных политических оппозиций, начиная с Троцкого. Поэт С. Я. Надсон там есть, несмотря на презрительное замечание Маяковского, как раз по поводу посмертного увековечения («Между нами – вот беда – позатесался Надсон. Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на Ща!»).
Было бы интересно углубиться в анализ содержания энциклопедии (например, как там представлены русская эмиграция, русская церковь), но это уведет нас от главной темы. Стоит только отметить, что в следующем издании («красном») все реабилитированные ученые, писатели, маршалы восстановлены, не повезло только коммунистам. За Бухарестским университетом следует растение бухарник, и нет никакого Н. И. Бухарина. Корректировку истории в положительном смысле продолжила редакция «Большого энциклопедического словаря» (1991), на котором советское энциклопедическое дело закончилось. Там, не говоря уже о симпатичном Бухарине, есть обстоятельная и объективная статья о Троцком, в конце которой сообщается: «убит в Мексике в результате террористической операции НКВД». Интересно, что при этом зона умолчания сократилась, но до конца не исчезла. В ней, в частности, остался такой политический деятель, как Степан Бандера (тоже убитый в результате террористической операции). Он упомянут, но только косвенно, в статье «Бандеровцы».
Том 6 со статьей «Вавилов С. И.» был подписан к печати 12 мая 1951 года, через три с половиной месяца после его смерти. Но этот факт в статье успели указать, а в общем в ней можно найти хорошее и подробное изложение биографии ученого и научного деятеля. Я заметил там только три инородных фрагмента, которые было бы легко удалить при современном переиздании:
«…требовал, чтобы в статьях БСЭ разоблачалась империалистическая агрессия и давалась большевистская критика реакционных буржуазных течений в различных областях науки, техники и культуры.
…В ряде своих работ В. раскрывал величие гениальных научных трудов В. И. Ленина и И. В. Сталина.
…В. был неутомимым и страстным борцом против американского империализма, стремящегося развязать новую мировую войну».
Специалисты по разоблачению империализма в редакции, наверное, были и помимо Вавилова. Величие трудов Сталина было бы нетрудно подтвердить цитатами из статей и докладов, которые Вавилову полагались по должности. Что касается Ленина, то в «Дневниках» можно найти один конкретный пример:
«Пишу со страшным напряжением и бездарностью доклад „Ленин и современная физика“» (30.01.1944).
В комментариях есть пояснение, что речь идет о публичной лекции, прочитанной в Колонном зале Дома Союзов и потом опубликованной в материалах Лекционного бюро при Комитете по делам высшей школы, общего собрания АН СССР, «Правде», «Известиях», журналах «Вестник АН СССР», «Успехи физических наук», «Под знаменем марксизма», «Электричество». Те из нас, кто изучал диалектический материализм и еще могут выговорить слово «эмпириокритицизм», должны помнить и ленинскую мудрость: «Электрон так же неисчерпаем, как и атом». Вавилову, наверное, удалось найти в трудах Ленина что-то сверх этого.
В последний год жизни здоровье Вавилова, и прежде неважное, постепенно ухудшалось. Лето и осень 1950 года прошли в обычном ритме. Он еще побывал в Ленинграде – 21-24 октября и 2-5 декабря. Октябрьский приезд отмечен интересной подробностью:
«Поездка в Колтуши, переданы Академии. Дрессированные мыши, несчастные дрессированные птицы и обезьяны – а в целом все кажется несерьезным и безвкусным» (24.10.1950).
В декабре стало совсем плохо:
«Хожу каким-то рамоли в сопровождении, подымаюсь на четыре ступени и отдыхаю. Был в ГОИ, в Академии, как-то руки опускаются. Ни творчества, ни активности. Люди – куклы, и все – картонные декорации. Город кажется разваливающимся» (02.12.1950).
К этому времени здоровье Вавилова стало предметом государственной опеки. Постановлением Политбюро ему предоставили месячный отпуск для лечения в санатории «Барвиха». Там он был с 12 декабря по 11 января 1951 года. Месяц прошел в болезненном состоянии, но все-таки в чем-то полноценно: с продолжительными прогулками по зимнему лесу, работой над обобщением закона Стокса, выездом в Москву на Новый год. После Барвихи была еще рабочая неделя в Москве. Снова болезненное состояние, но, помимо академической текучки, Вавилов еще размышляет над своей статьей о законе Стокса для «Докладов АН» – не допущена ли ошибка в выкладках.
Последняя запись от 21 января сделана, как это обычно и бывало, в воскресенье на даче в Мозжинке, и четырьмя днями позже Вавилов скончался. Судя по мемуарам академика П. Я. Кочиной (которая с Вавиловым не работала, но, очевидно, слышала в пересказе), в свой предпоследний день Вавилов, вопреки рекомендациям врача, допоздна работал на своем месте в здании Президиума АН. Подробности нас вроде бы не должны интересовать, но одно обстоятельство заслуживает внимания. Параллельно с дневником Вавилов вел «Научные записи», помещая их в тех же тетрадях. В томе «Дневников» в виде приложения даны записи за ноябрь 1950-го – январь 1951-го, без справочного аппарата. Это единственная часть тома, которая была опубликована раньше, причем очень давно («Химия и жизнь», 1975, № 1). Можно посочувствовать читателям тех лет, и себе в том числе, что им была доступна только такая маленькая часть вавиловского архива (конечно, по-своему тоже важная). Последние два документированных дня удивляют как раз несовпадением общечеловеческой и профессиональной линий жизни.
В «Дневнике»:
«Музыка Генделя. Ели в снегу. Снег. Луна в облаках. Как хорошо бы сразу незаметно умереть и улечься вот здесь, в овраге под елями навсегда, без сознания.
„Земля еси и в Землю отыдеши“. Жизнь кажется страшной тяжестью» (21.01.1951).
Но на следующий день, не уезжая из Мозжинки, он продолжил свою работу над обобщением закона Стокса, изложил свои выводы в четырех тезисах, и последние строки «Научных заметок» таковы:
«IV. Переход из стоксовой области в антистоксову должен быть непрерывным, т. е. в начале антистоксовой области значение вероятности должно мало отличаться от ее значения в прилегающей стоксовой области.
Из всего этого обобщенный закон Стокса вытекает с необходимостью» (22.01.1951).
Заключительные мысли научных записок могли бы оказаться и более важными с точки зрения рядового читателя, не понимающего в законе Стокса. В этих тетрадях есть и план написания будущих книг, и размышления о фундаментальных основах познания Вселенной (вряд ли газета «Правда» и журнал «Успехи физических наук» опубликовали бы их с той же готовностью, что и статью «Ленин и современная физика»). Но такие размышления присутствуют в дневниках все 15 лет, и нет никакой символики в том, что Вавилов возвращался к ним в свои последние дни.
Это была событийная сторона жизни, а теперь пора перейти к личности автора и его картине мира, отношению к людям, событиям, идеям. «Простые люди обсуждают других людей, более развитые говорят о событиях, интеллигентные – об идеях», – это я услышал на первом курсе от преподавательницы английского языка и думаю, что этот афоризм верен на все времена. Графически это можно представить пирамидой, в основании которой – биомасса примитивных мыслей, а на вершине – несколько одиноких интеллектуалов, думающих о мировых проблемах. При этом понятно, что без основания пирамида не устоит и никакие идеи не вырабатываются без подпитки с двух низших уровней.
Здесь много раз придется отмечать то, чего Вавилов не знал или не хотел знать, разные внешние и внутренние ограничения и самоограничения. Думаю, что это его не дискредитирует. Он и сам несколько раз возвращается к тому, что современный средний студент знает о мире больше, чем Галилей и Ньютон. Когда-нибудь и нас будут читать так же снисходительно (если будет кому читать вообще).
Начнем с вершины пирамиды, оставив на потом более интересные записи о разных людях, особенно о собратьях-ученых. Если исходить из непримиримости научного и религиозного мировоззрений (хотя в XXI веке такой подход не очень приветствуется), то Вавилов, безусловно, стоял на научных позициях. Нигде не прослеживается его интерес к религии, православию, не говоря уже о других конфессиях. Едва ли не единственное исключение – поездка всей семьей в Троице-Сергиеву лавру в последний год жизни, скорее экскурсия, чем паломничество. Но Вавилов отметил и то, что «бывал здесь с матушкой с пяти лет», и «русские культурные геологические слои», и «искусственно воскрешенных монахов», и впечатление от лика преподобного XV века – «умное доброе старое русское лицо» (01.08.1950).
Материализм Вавилова был неоднозначным, и он постоянно возвращается к тому, что мы изучали как основной вопрос философии – о соотношении материи и сознания. Уже в первой записи возобновленного дневника он формулирует исходные положения:
«Бесконечны „системы отсчета“ сознания: точка зрения биологического организма, борющегося за самосохранение, за потомство; социологического организма, класс, нация, государство; научное сознание, где виден весь мир в своей подвижности, бесцельности, игре. Самое простое – одна крепкая система координат, самое ужасное – постоянные переходы, блуждания. „Интеллигент“, существо с блуждающей системой отсчета. Приспособить все остальные системы на службу одной? Можно ли это? И какая же система начнет претендовать на звание абсолютной. Но релятивизм сознания – одновременно его грядущая гибель» (26.07.1936).