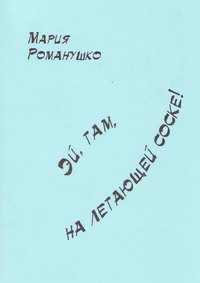Полная версия
Не под пустым небом. Роман-трилогия «Побережье памяти». Книга вторая
– Как дела на пульте?
– Как обычно. Тоска.
– Хочешь, стихи почитаю, только что написал?
– Хочу.
Он читает про Крышу. Про нашу Крышу. По которой мы бегали когда-то… ещё недавно… когда это было?.. Когда-то – совершенно нереальным – невозможным – невозвратным – летом…
Про нашу Крышу. Которая заперта теперь на тяжёлый висячий замок. Ах, Боже мой, да разве в замке дело? Тяжелее ржавого замка – 25 июля – день ухода Моего Клоуна. Тяжелее замка – короткое имя Анка…
«Чтобы не страдать от одиночества, человек должен жить один». Первая фраза романа, который я хотела написать этой осенью. Но, написав первую фразу, поняла, что добавить к сказанному – нечего.
Вечер… совсем темно. Сотни тёплых разноцветных окон смеются мне в лицо…
Неужели? – думаю я, – неужели?.. в каждом окне живёт одиночество? И мне становится страшно.
Толстый паук на потолке неприятно шевелится… Б-р-р!.. Приходится сказать себе: просто это сквозняк колышет платком. Просто сквозняк…
Один приятель, на днях, сказал: «Слушайте, я тут кое-что написал, вроде как начало повести. Или пьесы. Два персонажа. Один говорит другому: «Вы говорите, я веду плохую жизнь? Я не веду никакой жизни. Я веду смерть».
Я лежу в дырявом гамаке. Холодно. Зима. Вы говорите, я веду плохую жизнь?.. Звонок.
– Пульт!
– Деточка, вы не спите?
Я узнаю её старческий бодрящийся голос. Это – Лидия Андреевна Русланова, та самая знаменитая певица Русланова. Её квартира – у меня на пульте, другими словами – на автоматизированной охране. Эта старая женщина звонит мне по ночам. Она ни на что не жалуется. Она не рассказывает мне жутких лагерных историй. (Я только недавно узнала о том, что она, народная любимица, после войны была репрессирована. И сидела. Одиннадцать лет!)
А сейчас ей уже за семьдесят. И у неё бессонница… Многолетняя хроническая бессонница, с которой не могут справиться никакие лекарства. И ей не с кем поговорить в эти бессонные ночи. И она звонит мне, зная, что я не сплю по долгу службы. Звонит, чтобы услышать человеческий голос в этой глухой ночи…
– Деточка, вы не спите?
– Не сплю.
– Может, поболтаем?
И так мы с ней болтали по ночам, не подозревая, что это – последний год её жизни. Не признаваясь в том, мы друг другу немного завидовали. Она – моей молодости, тому, что у меня всё ещё впереди… А я – её старости, тому, что у неё всё уже позади – все утраты и страдания. И впереди – только одно испытание, одно-единственное… но последнее. Она жаловалась на память, на то, что многое стала забывать. А я – страдала из-за того, что слишком хорошо всё помню, что не умею забывать.
В одну из тех ночей я написала своё самое грустное стихотворение, оно уместилось в две строчки:
Я старости хочу, склероза,Спасительного, как наркоза…Вообще-то, она жила с компаньонкой, то та иногда уезжала к родственникам, и тогда на старую певицу нападала тоска.
…Я слушаю её надтреснутый голос и вспоминаю, как задорно пела она когда-то народные песни, особенно про валенки, «которые не подшиты, стареньки», но это не мешало влюблённой девчонке из песни бегать к милому на свидания…
У Лидии Руслановой была всенародная слава, но она никак не грела эту старую одинокую женщину. Слава была сама по себе, а она со своим одиночеством – сама по себе…
В ту осень, в ту зиму – и ещё долго – в Москве не существовало телефона доверия. Мне звонила по ночам не только эта одинокая знаменитая старуха. Звонил ещё один старик. И ещё один… Всех теперь уже и не вспомнить… Им хотелось, чтобы кто-то их выслушал. И сказал бы тёплое слово в ответ…
Рядом с лампой – бумага и карандаш, так, на всякий случай, вдруг что-то придёт в голову… Но ничего хорошего не приходит. И я пишу про этого паука на потолке, пишу – чтобы как-то освободиться от него, от этого знобящего чувства: вот он переселился на бумагу, и мне уже не страшно.
* * *тень от лампыпохожа на паукатолстого и неподвижногоя смотрю на негои меня неприятно знобит…гашу лампудолго сижу в темнотеи думаю о томчто моя жизнь одинока и грустнаи так будет всегданикогда у меня не будетни семьи, ни детейни любимой работы…и я молю своё одиночествосвоё молчаливое доброе божество:не дай мне забытьо той непоправимо короткойстранно сверкнувшей жизнии дай силудай силупрожить воспоминаниями о ней —и не желать ничего лучшего…Загустевая в образах, отделяясь от меня, материализуясь в словах, таких вроде обыденных, – моя тоска словно бы возвышается надо мной (лежащей «калачиком» на дырявой раскладушке, под негреющим одеялом), возвышается надо мной неким парящим в сумерках зимней ночи ангелом…
Ангел, глядящий на меня горьким взглядом, парит надо мной… и вот уже моя душа, отлепившаяся от дырявого гамака, от озябшего тела, – парит рядом с ним… ещё тяжко и неуклюже – вроде и не летала никогда прежде, с трудом вспоминая ощущение полёта…
Звонок!
– Пульт!
– Вы не спите, деточка?
Деточка не спит, деточка отращивает новые крылья. Только бы не шмякнуться опять на этот дырявый гамак…
Шмякнусь. Ещё не раз шмякнусь!
* * *
Зима началась 13 ноября. Навалило столько снега!.. Мы с Каптеревым идём в цирк, я хочу познакомить его с Ядвигой. Он обожает цирк.
Странно… цирк на Воробьёвых горах – тоже цирк. Но я сюда иду без страдания. Потому что Мой Клоун здесь никогда не выступал. Этот цирк для меня – другой цирк. Это – цирк Ядвиги Кокиной, живой цирк, одушевлённый присутствием прекрасной синеглазой женщины, её улыбкой…
У цирка нас обещал ждать Гавр, он хотел передать мне свои новые стихи. Но – почему-то не пришёл. (Позвонив ему после спектакля, я узнала, что именно сегодня, 13 ноября, у него родился сын.)
…А Ядвига нам помахала приветливо с высокого мостика…
А потом мы зашли к ней в гримёрную, пообщались, и Каптерев подарил ей свою картину. На картине был цирк. Ядвига сказала, что очень любит живопись, она была искренне благодарна и удивлена таким шикарным подарком. Над её гримёрным столиком уже висело несколько милых акварелей. Ядвига тут же стала искать место и для каптеревской картины…
Шли к метро втроём, мела самая настоящая метель, было похоже на глубокую зиму… Наконец-то белизна прикрыла мрак этой осени, и сразу стало легче на душе. А Ядвига говорила о том, что у неё есть мечта – иметь собственную машину. Для того времени эта мечта была совершенно несбыточной. Машины в то время имели только большие начальники, писатели крупные, знаменитые режиссёры, ну, ещё какие-то богатые люди, которых было не так уж много. В очереди на машину люди стояли годами, и полжизни копили на неё деньги, поэтому за рулём были люди уже немолодые. Женщин за рулём вообще не было. А простая циркачка лелеяла такую дерзкую мечту! Это было равносильно мечте слетать в космос.
– Зачем тебе машина, Ядя? – удивилась я. (Мы с ней были уже на «ты»).
– Люблю скорость! Ах, как бы мне хотелось лететь по прямому, как стрела, шоссе!.. Чтобы ветер свистел!.. Чтобы спидометр зашкаливало!.. Больше ничего в жизни так не хочется, как лететь на безумной скорости по прямому шоссе…
Ей хотелось улететь от своей тоски, улететь в те края, где тоски уже нет. Как я её понимала!..
* * *
Конечно, они дали сыну совсем не то имя, о котором я просила.
Впрочем, мне-то что до этого? Не моё это дело – давать имена чужим сыновьям…
* * *
Я не просто так пришла. Меня позвали. Посмотреть на их сына. Но мне было трудно идти одной, и я взяла с собой Маришку.
Два лёгких детских имени – Анка и Санька… две пары глаз: карих и серых… И этот плюшевый заяц в углу дивана, и эти ползунки над головой, когда мы сидим у него (у них!) на кухне и пьём чай… Вчетвером. И оживлённо общаемся. Мне показывают тетрадку со смешными Анкиными словечками, я читаю, смеюсь…
Нет, никогда у меня не будет детей! Никогда! Как неприятен этот плюшевый заяц в углу дивана, какое бессмысленное, тупое у него лицо. Как неприятны эти болтающиеся над головой ползунки, представляю, что за удовольствие стирать их… О Господи! и сидеть за одним столом, и пить остывший чай, и знать – определённо знать – что всё – ложь. Улыбки… Слова… Даже этот ни в чём не повинный плюшевый заяц…
* * *
В Литинституте.
Отношения с Долматовским накаляются. Он меня не воспринимает. Он швыряет мои стихи, так что они летят на пол, и кричит:
– Никто не докажет мне, что это – стихи!
Мы без конца спорим. По каждому поводу. И без повода. Он кричит:
– Ты – стерва, как моя младшая дочь! Такая же упрямая, как она! Вы вечно спорите!
Я – стерва?.. Интересно, в чём же заключается моя стервозность? В том, что имею своё мнение и пишу стихи так, как хочу?.. Любопытно, чем сего почтенного мужа достала его младшая дочь?.. Хотелось бы посмотреть на неё – на мою «коллегу» по несчастью. Он говорит, что мы даже внешне похожи. Вот, у них там какие-то свои семейные разборки, а он потом вымещает всё на мне… Да… а когда-то он был моим любимым поэтом. Хотя я даже имени его не знала тогда. Я была слишком мала, чтобы запоминать такие сложные фамилии, мне было года четыре в ту пору, и я с упоением напевала:
«Любимый город может спать спокойно,И видеть сны,И зеленеть среди весны…»Мне казалось тогда, что эта уютная, тёплая песня – про мой родной город Днепропетровск, про мою любимую Философскую улицу…
А потом я полюбила и другие его песни, например – «Ночь коротка». Чудо как хороша! Такая прозрачность и хрупкость неназываемого… Ничего, вроде, о любви не сказано, но каждое слово – о любви.
Ночь коротка…Спят облака…И лежит у меня на ладониНезнакомая ваша рука…Много, много, всё не перечислишь. Хотя много и другого – такого, сугубо советского. Он, как Маяковский, то и дело наступал на горло своей песне. Многие наступали себе на горло. Чтобы выжить. Но для меня он был по-прежнему автором «Любимого города». И когда к нему в творческий семинар попала, то обрадовалась, думала: «Родная душа!»
И вот как всё обернулось… Хоть институт бросай! На первых же семинарах у Долматовского я для себя решила, что не продержусь здесь долго. И только слёзы мамы, которая уверяла, что не переживёт моего ухода из института, удержали меня от того, чтобы забрать документы ещё до первой сессии.
Мама, что-то почувствовав, сказала тогда твёрдо: «Если ты бросишь и второй институт, у меня будет инфаркт. Запомни!»
Значит, придётся домучиваться… Впрочем, в конце второго курса – творческая переаттестация. Старшекурсники говорят, что после неё отсеивается где-то половина. На первом курсе – сто человек. После переаттестации остаётся около пятидесяти. Представляю, какую характеристику напишет мне Долматовский! Уж он-то напишет… К примеру, так: «Стерва эта Романушко! Глаза б мои её не видели!»
Сказал бы нам кто-нибудь тогда, что через два года такого яростного взаимоотталкивания… мы подружимся! Да-да, мы подружимся!
Но – зачем-то надо было пройти через полосу грызни, взаимных обид и непонимания. Надо было выстрадать нашу будущую дружбу.
Через много лет я напишу рассказ, он будет называться «Двое на дне дождя», где опишу всю нашу историю – и как он кричал на меня, и как швырял мои стихи, и как критиковал меня по поводу и без повода, цеплялся к каждому моему слову, и как однажды, не выдержав, я встала на семинаре и сказала: «Заберите свои слова обратно!» И как он опешил… А я сказала: «Я жду». И через какую-то огромную паузу он бросил мне в лицо: «Ладно! Беру! Ты довольна?» «Я довольна», – сказала я и села. И как мне потом ребята говорили после семинара: «Ну, можешь идти забирать документы! Лучше самой уйти, всё равно он тебя съест». Но, как ни странно, именно этот случай стал поворотным в наших отношениях: он во мне увидел человека. Человека, которого можно уважать. Ну, а потом уже был дождь, и наше общение – как на дне океана – общение взахлёб… И радостное осознание того, что мы давно уже не враги, а друзья, и даже больше: в его глазах я читала отеческое тепло, и было столько заботы и доброты в его словах, как будто я – его любимая дочь. Как будто своих трёх дочерей ему мало, и вот, он решил удочерить ещё одну – меня…
Но до того времени было ещё далеко… А пока мы ругались и кусались. Кусались и ругались…
«Никто не докажет мне, что это стихи!» – кричал он.
Да я и не стремилась никому ничего доказать. Действительно: что общего у поэзии с кровоточащей раной? С переживанием смерти?.. Тут не до сладкозвучных рифм, не до знаков препинания…
Почему-то именно это (отсутствие рифм, размера и знаков препинания) больше всего выводило из себя моего творческого руководителя.
– Так писать нельзя!!! Что это ты мне подсовываешь?!
Я «подсовывала» свою душу. Больше у меня ничего не было.
* * *
А как «надо», как «положено» писать – кто это установил?.. Где эта – спущенная с небес – Инструкция?..
В сумерках той (уже давней зимы) я познала другое – более важное, чем вымышленные кем-то законы стихосложения: Господь дал нам свободу. Жить – и умирать – и в муках отращивать ампутированные крылья…
* * *
Трудно, тяжело, когда творческий руководитель относится к тебе так непримиримо. Можно даже сказать – агрессивно. Но – не я первая, не я последняя.
Говорят, в Литинституте существует печальная статистика. На первом курсе обучаются, в основном, поэты. Процентов пятьдесят, или даже больше. Процентов тридцать – прозаики. Десять процентов – драматурги. И где-то по пять процентов – критики и переводчики. Но к пятому курсу поэтов почти не остаётся. Они перестают писать стихи! И уходят. В прозаики. А ещё больше – в переводчики. А ещё больше – в критики. А самые несговорчивые отчисляются из института за «творческую несостоятельность».
Но зато те, которые доходят до выпуска поэтами, – они постепенно становятся «правильными» поэтами. Они принимают условия игры: и начинают писать как надо и о чём надо.
Мне поведала об этой печальной статистике одна из старшекурсниц. Которая тоже поступала в институт как поэт. А теперь писала критические обзоры в журнал «Знамя», который был по соседству с институтом, и многие студенты подрабатывали в нём.
– Я уверена: ты тоже скоро бросишь стихи! – сказала мудрая старшекурсница. – Переходи на переводческое, пока тебя не вышибли. Переводчики хорошо зарабатывают – лучше поэтов. Или переходи на критику, критики везде нужны, так что без куска хлеба не останешься.
Но на переводческое я переходить не собиралась. Мне это совершенно не интересно: повторять за кем-то чужие слова и мысли! У меня и своих собственных мыслей достаточно.
А уж на критику переходить… Это как-то совсем скучно и унизительно.
– Да лучше пусть меня вышибут на переаттестации! – сказала я.
– Ну, и глупо! – сказала мудрая старшекурсница. – И что и кому ты этим докажешь?
* * *
Я тоже как-то заглянула в это уважаемое издание – в редакцию «Знамени», где многие наши так хорошо «паслись». Оставила в отделе поэзии свои стихи.
Как оставила – так благополучно и забрала через две недели. Мне объяснили, что стихи мои не современны, не актуальны, в них нет примет сегодняшнего дня. Сказали, что, кроме моего грустного настроения, они ничего не отражают. А это не может быть востребовано широким читателем. Удивились, что я, с такими упадническими настроениями, являюсь студенткой Литинститута. Посетовали на то, что в институте мне до сих пор никто не объяснил, как надо писать и о чём…
* * *
Кстати, почти все на нашем семинаре очень быстро вступили в коммунистическую партию. Это было как-то естественно. Помню, как в приветственном слове нам, первокурсникам, ректор говорил:
– Вы – работники идейного фронта! Не забывайте об этом!
Большинство прониклось этой мыслью и торопливо пополнило собой ряды КПСС. Каждому было ясно: без красной корочки не будет карьеры, не будут печатать, не возьмут на работу в издательство.
– А ты почему не вступаешь в партию? – строгим голосом спросил меня Евгений Аронович.
– Не хочу, – сказала я, обескуражив его своим ответом.
– Я бы мог написать тебе рекомендацию, – сказал он.
Я удивилась: с чего вдруг такая «доброта»?
– Спасибо, не надо, – сказала я.
Он был мной недоволен. И удивлён: я не хотела реабилитировать себя в его глазах. Не беспокоилась о своём будущем. Одним словом, вела себя (на его взгляд) совершенно несерьёзно. Если не сказать – вызывающе!
Я уж не стала его шокировать рассказом о том, с каким наслаждением порвала и спустила в мусоропровод свой комсомольской билет. Это было ещё в те времена, когда я работала осветителем в цирке…
* * *
Рядом со мной на творческих семинарах сидел, обычно, Арнольд Вакс, с которым мы познакомились и подружились ещё на вступительных экзаменах.
Мы с Ваксом представляли собой малочисленную, но крепкую оппозицию. И очень действовали на нервы Евгению Ароновичу. Вакс был лет на десять старше меня, у него был величественный библейский облик, он смотрелся на нашем семинаре совершенно чужеродно и держался отстранённо-философично. Мог спокойно, во весь голос сказать, обращаясь ко мне:
– И как нас с вами занесло в этот дурдом? Вы не знаете?..
Евгений Аронович зеленел от этих Арнольдовых эскапад. И не знал, как себя с ним вести. Дело в том, что просто так взять и выгнать его он почему-то не мог. Видимо, по двум причинам: во-первых, Арнольд был сыном погибшего в Отечественную войну драматурга, может быть, даже друга Долматовского. А во-вторых, у Арнольда была старая полоумная мать (кстати, они жили во флигеле института), и эта мать с растрёпанными седыми космами всё время прибегала в институт, узнать, как тут её сынок. Она безумно хотела, чтобы сынок закончил институт и имел официальный статус «писателя», она боготворила каждую строчку, написанную Арнольдом, а писал он страшно много, и она все дни проводила в перепечатывании его гениальных страниц… Эту старую женщину все в институте жалели. Евгений Аронович так и говорил Арнольду:
– Только ради вашей несчастной матери я терплю вас!
Арнольд писал и стихи, и прозу. Не деля свои строки на книги, он писал сплошным потоком – писал жизнь… Подоконники их флигелька были завалены сотнями, тысячами страниц… Это был настоящий эпос. А Вакс был Гомером наших дней. Вот один из его замечательных стишков, который мог бы служить визитной карточкой Арнольда Вакса:
На гениальность я не сетую.Сам гений, и другим советую.Через несколько лет я напишу рассказ о нём – «Встреча на бульваре». Но на самом деле о нём надо было бы написать роман…
Арнольд Вакс, где ты? Тебя всё-таки выгнали из института, и мечта твоей матушки не сбылась. А ваш знаменитый флигель, где на каждой двери надо было бы повесить мемориальную доску и устроить там «Музей гениальных нищих русских писателей», этот флигель отобрал себе Литинститут, перестроил его на свой вкус, и там теперь расположены аудитории заочного отделения и высших литературных курсов. А жильцов флигелька выселили на какую-то далёкую окраину, в «спальный район», где, естественно, долгое время в квартирах не было телефонов. И Арнольд исчез из моей жизни. Слышала только, что какое-то время он работал лифтёром – там же, в своём спальном районе…
Арнольд Вакс, где ты? Ни один из наших общих знакомых ничего не знает о тебе. Ни один поисковик не находит в Интернете твоё имя. А где же тысячи страниц, под которыми ломились подоконники в вашем флигельке? Что с ними стало?..
* * *
Ночь на пульте.
Звонок.
– Это я, – говорит Гавр. – Не разбудил?
– Да нет. Не до сна.
– Умер Симон.
Умер Симон… Это – уже глубокая зима…
Наш Симон. Сказочный карлик с умными, весёлыми глазами. Неужели он был карлик? Когда он шёл рядом со мной по улице, он едва доходил мне до локтя… Но я всегда смотрела на него снизу вверх. Да. Именно так: снизу вверх! Это я чувствовала себя маленькой. Нет, я не придумала это потом, после его ухода. Это – правда.
– Он умер в больнице, – говорит Гавр, – кажется, его нечаянно убили: влили взрослую дозу лекарства.
А ведь он был маленький…
Хоронили Симона в детском гробике.
* * *Никогда больше не будетни зимы ни лета ни весны ни осени…разбилась– с лёгкостью фарфорового блюдца —волнующая круговерть времен года…Всё замерлокак в страннойбессмысленной игре «замри»Светофоры глядят не мигаякраснымислезящимися от ветра глазами…замерли стрелкина часах у перепуганных стрелочникови сами стрелочникистоят неподвижно, уставясь в пустотуиз которой уже не придётни один поезд…И никто никогда не скажет «отомри»этомунекогда весёлому миру…холодноЯ плакала, несколько дней тому назад, когда писала эти стихи. Писала, ещё не зная, к кому они обращены на этот раз. Я не успела навестить его в больнице…
У него не было семьи. Его хоронили друзья с лито. Меня не отпустили с работы. Но я передала с Гавром это стихотворение, которое он положил Симону в гроб.
Самым неутешным был Миша Файнерман. Он очень любил Симона.
Он не сможет смириться с уходом Симона и через много лет…
И когда через много-много лет выйдет его, Мишина, первая книга, на первом листе будут стоять слова, свидетельствующие о его преданной любви к этому человеку:
«Памяти Симона Бернштейна».
* * *
Лито продолжало существовать, его вёл Эдмунд Иодковский, но для меня это место утратило притягательность, и последний раз, помню, мы были там с Гавром, когда отмечали девять дней Симону.
Все говорили хорошие слова о Симоне, для многих этот маленький человек много значил. Миша читал своим тихим, заикающимся голосом печальные стихи и едва сдерживал слёзы. Было страшно грустно… Я не могла ни говорить, ни читать. Сидела и вспоминала, как летом мы были все в Доме литераторов на вечере поэзии, и все выступали там, а Симон сидел в первом ряду и, как пятилетний мальчишка, болтал ногами… у него ведь ноги не доставали до полу… И тоже читал, что-то смешное, что-то вроде:
Салатик, компотик,Халатик, животик…Все смеялись… и он сам смеялся… он был весёлый, озорной. И очень умный. И умел потрясающе слушать. Когда он слушал других, он весь обращался в слух.
Ему было немного за пятьдесят. За всю жизнь были напечатаны два или три его весёлых стишка – где-то в разделе «юмор». И всё…
Больше его не будет. Больше я никогда не приду на лито. Прости, Симон, но без тебя мне тут нечего делать…
* * *
Мама зачем-то купила билеты в цирк на Цветной бульваре.
Она говорит:
– Чтобы сделать тебе приятное.
Она даже не подозревает, что я почувствовала, когда она, с улыбкой, показала мне эти билеты… Но я умею владеть своим лицом.
Чтобы сделать приятное ей, иду с ней на спектакль…
Наши места неподалёку от моего софита, за которым я просидела целый сезон… Сейчас за ним сидит белобрысый Колька, с которым мы лазили когда-то на купол… Да, я работала в цирке на Цветном бульваре, было и такое в моей жизни.
На манеже – Никулин и Шуйдин. Можно было бы пойти за кулисы и пообщаться, принести Юрию Владимировичу новые стихи, он любит мои стихи. Но нет сил идти туда, за кулисы, где когда-то была гримёрная, на двери которой висела табличка с именем Моего Клуона… ещё не так давно…
Сижу, сжавшись вся в комок, – только бы не заплакать! И вспоминаю, как осенью, уезжая из Крыма, в последний вечер в Симферополе, в ожидании поезда, гуляла под дождём, и, промокнув и озябнув, пришла к цирку…
Представление уже шло минут двадцать, но касса была открыта, и билеты были. И мне вдруг показалось, что вот, войду сейчас в зал… а Мой Клоун – там, на красном манеже… И не было этого страшного случая по имени «смерть»… так, приснилось что-то жуткое, так бывает. Но на самом деле – Мой Клоун здесь, в цирке…
Скорей, скорей увидеть его! скорей проснуться из этого кошмара!
Покупаю билет. Вбегаю в зал…
А зал хохочет… хохочет над каким-то разрисованным чудаком в манеже, совершенно не смешным… и таким глупым! И я сажусь на своё место, свет гаснет… кто-то там летает в полумраке под куполом, а я сижу и плачу… и даю себе слово, что никогда больше, никогда в жизни не приду больше в цирк, в котором когда-то выступал он…
И вот – я опять в цирке на Цветном бульваре…
Много лет я жила с ощущением, что моя жизнь замкнута в круге. В цирковом круге, тринадцати метров в диаметре. Я не стремилась выйти из этого круга, ибо нашла здесь – всё. Всё, чего может желать человек: любовь, смысл жизни, простор для творчества. И все люди, встреченные мной в эти годы, и все события, происшедшие со мной, оказывались внутри этого круга.
И вот я смотрю на этот круг…
Красный манеж – как открытая рана в моём сердце…
Больно…
Здесь – страшнее и больнее, чем на Ваганькове.
Здесь – Моего Клоуна нет.
А там – он смотрит на меня с портрета, как из окна, и улыбается…
* * *