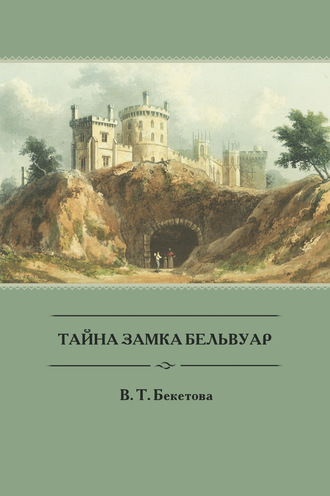
Полная версия
Тайна замка Бельвуар
– Всего этого я не знаю, – промолвил граф, нахмурив брови и сжав губы.
Нортон, помедлив, сказал:
– Вот ещё один весомый аргумент в пользу Марло. Он исчезает в 1593 году, и в этом же году свою литературную деятельность почти официально объявляет Шекспир, объявляет в посвящении поэмы «Венера и Адонис» вашему другу юности графу Саутгемптону, – Нортон скосил глаза на графа и мягко улыбнулся.
Последний был в полном смятении. Во-первых, сэр Томас Уилсингэм по материнской линии был родным дедом его жены Елизаветы Сидни; во-вторых, известие о том, и это самое главное, что потомки объявляют Марло Шекспиром, не только смутило, покоробило всю душу Рэтленда, оно её чуть не разорвало и, не выдержав, он горячо, почти с вызовом спросил у Нортона:
– А что же Гилилов? Кого он определил Шекспиром?
– Вас, – просто и твёрдо ответил Нортон.
Бедный граф! При этих словах он споткнулся, повернулся в сторону скамейки и Ниобеи, стал смотреть по сторонам, как бы чего-то или кого-то испугавшись, и, вообще, растерялся и даже сник; снял шапку, стал её мять. Нортону было жаль его до глубины своего мягкого и прекрасного сердца. Он водрузил шапку на каштановые кудри графа, взял его под руку, и они пошли к кустам форзиции и к плачущей Ниобее. Оба молчали. Наконец, граф тихо, но уверенно глуховатым голосом сказал:
– Хорошо. Пусть так. Но как я, именно я попал в поле зрения Гилилова и оказался в числе главных претендентов на имя подлинного Шекспира? Есть ли для этого основания, доказательства?
– Безусловно, есть, – ответил Нортон, – и я приведу несколько.
В поле зрения Рэтленд
Они замедлили шаг и остановились. Набежали облака. Подул довольно прохладный ветерок, но собеседники словно не заметили перемен в природе. Стоя друг против друга, безмерно взволнованные, они как будто ожидали чего-то особенного от тех слов и признаний, которые должны уже в ближайшие минуты произнести. Нортон пояснил графу, что он попал в поле зрения шекспироведов ещё в ХIХ веке. «И произошло это, во-первых, потому, что по сумме своих знаний вы, пройдя, кроме домашнего, ещё несколько университетов, могли обладать тем феноменальным лексиконом, который особо отмечен в произведениях Шекспира: общий насчитывает до 30 тысяч, а активный – 22 тысячи слов; повторю: этим мог обладать гений и человек необыкновенного ума, начитанности и учености со знаниями нескольких иностранных языков. Это утверждают учёные нашей эпохи. Таким требованиям более всего из претендентов соответствуете вы, Роджер.
Второе фундаментальное основание считать вас подлинным Шекспиром, – продолжил Нортон, – вытекает из вашего путешествия по континенту в 1595–1597 гг. Всё, что вышло из-под пера Шекспира в ранние годы и позже, связано с этим путешествием. Совпадения потрясающие – не только общие, но и в деталях. И они обнаружены исследователями. Почти каждое место пребывания лорда Рэтленда в Италии, во Франции отмечено пьесами Шекспира. Поговорим об этом подробнее. Прибыв в Италию через Бреннерский перевал, вы оказались в Вероне, затем – в Мантуе. Почти как истовый учёный сразу стали изучать историю этих городов, архитектуру, жизнь людей, литературные предания. В результате мир знакомится с такими произведениями Шекспира, как „Ромео и Джульетта“, „Два веронца“, оба связаны именно с этими городами, с их особенностями, что нашло отражение в пьесах. И Гилилов это показал и доказал. Вас влечёт Венеция, где вы утонули в многоязычности и в многоликости людских толп, в безумной их красочности, в легендах этого города. Вы изучаете её историю, посещаете ярмарки, театры, карнавалы. И вот из-под пера Шекспира выходят „Венецианский купец“, „Отелло“.
Но ещё больше вас влечёт Падуя, где ваш прекрасный портрет был написан французским художником Исааком Оливером. Здесь создаётся одна из лучших комедий Шекспира – „Укрощение строптивой“. Всё действие происходит в Падуе, а один из главных героев, Люченцио, сюда, в „наук питомник“, прибывает из Венеции. Он прибывает учиться, как и вы. Ибо ваша, Роджер, страсть к знаниям, учёбе резко выделяется на фоне ваших же современников. Об Уильяме Шакспере, который в это время прибивается к каким-то актёрам в Лондоне в качестве Джона-фактотума, то есть умельца и дельца, мы просто молчим. Здесь даже нет поползновений к учёбе, к знаниям, здесь только требуется выжить около кого-то или чего-то, что естественно для этого человека в его жизненной ситуации.
Возникают ещё восхитительные комедии Шекспира: „Двенадцатая ночь“, „Много шума из ничего“, которые прямо связаны с любимой Рэтлендом Италией. А вот и „Буря“! Просперо – Миланский герцог, в образе которого Шекспир предстаёт перед зрителем в эпилоге своей творческой деятельности. Все эти пьесы связаны с вами, с вашим путешествием по северной Италии! Не так ли? Нужно полагать, что Шакспер из Стратфорда-на-Эйвоне об этих городах, их истории, культуре ничего не слышал. Вряд ли он знал, что на белом свете есть Италия и где она находится. Вот главное основание, в результате которого вы попадаете в поле зрения учёных, литераторов, ищущих подлинного отца брошенных детей-пьес. Но у Гилилова, – продолжил Нортон, – есть и другие прочные основания, теоретически и эмпирически подтверждающие рэтлендианскую теорию в шекспировском вопросе. Об одной обмолвлюсь: он, единственный в мире, раскрыл тайну поэтического сборника „Жертва любви“, ведущую исследователей к хозяину замка Бельвуар как к подлинному Шекспиру, то есть ведущую к вам».
– Как! Неужели тайна «Жертвы любви» раскрыта и раскрыта им?! – почти вскричал граф. – Но в Феникс мы вложили много ума. Этого быть не может!
Слова Нортона просто потрясли графа. Александр Генрихович пожалел, что сказал об этом, поэтому постарался увести разговор в несколько иную плоскость:
– Роджер, то, что я вам скажу, крайне интересно и важно. Вы только послушайте и вдумайтесь. Рэтлендианскую теорию масштабно начали разрабатывать немецкие и голландские учёные в начале ХХ века. В этом они добились больших успехов. Позже к ним присоединились и русские. Англо-саксонский шекспировский «истеблишмент» всё это напрочь игнорирует: они даже не переводят работы этих учёных на английский язык, называя их ересью. У американцев, вы их не знаете, сложилась мощная школа по бэконианской теории, остальное они просто не слушают и не читают. Такие умные! В самой Англии, на вашей родине, Роджер, в качестве подлинного Шекспира признают графа Оксфорда (1550–1604). Конечно, был, остаётся и процветает традиционный Шакспер из Стратфорда-на-Эйвоне. Он тоже главный в учебниках, энциклопедиях и в Московии. Вот, в общих чертах, такая ситуация пребывает в решении шекспировского вопроса в мире литературы в моём времени, – этими словами Нортон заключил свой рассказ.
Граф был ошеломлён всем услышанным. И хотя информации было много, он быстро отреагировал на Оксфорда:
– Этот человек, который, как и другие, писал пьесы, стихи, но под своим именем, умер в 1604 году. Как же его могут считать подлинным Шекспиром?
Нортон засмеялся:
– С ним поступили, как и с Марло. Последнего после смерти воскресили в качестве Шекспира, а Оксфорд якобы до 1604 года, то есть до своей смерти, написал шекспировские произведения, которые после кончины графа выпускались его агентами и родственниками под именем Великого Барда, то есть Шекспира (Shake-Speare).
– Но сколько нелепостей во всём этом, – печально сказал граф, – сколько надуманного!
– Нелепостей предостаточно, – продолжил Нортон. – Взять хотя бы прямую и косвенные связи в творчестве Шекспира с графами Эссексом, Саутгемптоном и, конечно, с королевским двором. Как их объяснить? Откуда они? Начинают придумывать всяческие небылицы о великой дружбе то ли актёра, то ли драматурга Шакспера с всесильной титулованной знатью английского двора, с самой королевой, а потом и с королём, где и с кем якобы этот человек прошёл университеты и даже приобрёл феноменальный лексикон. Однако всё становится простым и естественным, а главное, правдивым и ясным, когда в Шекспире мы видим графа Рэтленда – друга, родственника названных лордов и человека английского королевского двора, человека великого образования и эрудиции, к тому же гения от природы.
Граф слушал всё это, поражённый в самое сердце. Он был настолько потрясён рассказом Нортона, что даже не знал, что ему говорить, что спрашивать, как возражать на услышанное. Да и стоило ли возражать? В раздумье, и отчасти в смятении, его светлость сказал:
– Я, конечно, всего этого не мог знать, предвидеть, хотя предполагать шекспировские игры в будущем можно было, но именно такие – нет. Теперь я многое понял и многое знаю. Но имеет ли Гилилов по этому вопросу свои книги, статьи?
– Да, имеет, – ответил его собеседник.
– О! Александр! Я должен немедленно, даже сию же минуту, видеть и говорить с Ильей Михайловичем! – горячо, с трепетной интонацией воскликнул Рэтленд.
«Блудный отец должен вернуться к своим детям-пьесам и поэзии, как вернулся Шакспер к своей семье в городке Стартфорд-на-Эйвоне», – подумал Нортон, но вслух не стал говорить этих слов графу, понимая, что творится в его сердце и в голове. С этими мыслями они незаметно подошли к исходной позиции, каждый ещё переживал сказанное и услышанное, думая, что должно произойти за случившимся объяснением. А произошло маленькое и милое, хорошее событие, которое разрядило напряженную обстановку в беседе двух мужчин. Просто за кустами послышались голоса, щебечущие на незнакомом для графа языке, а потом раздался такой прелестный девичий смех, что стал для возбужденных сердец собеседников своего рода успокоительной и музыкой, и микстурой.
Они быстро подошли к форзиции и увидели склонившиеся над букетом оставленных нарциссов головки трёх медицинских сестёр, которые так старательно выполняли свои обязанности в группе Гилилова. Не видя подошедших, девушки распределяли найденные цветы, а потом, заливаясь колокольчиками смеха, гадали на лепестках. Рэтленд стоял завороженный. Он забыл, что котируется у Гилилова в качестве Шекспира, это, конечно же, соответствовало действительности, но требовало объяснений с самим учёным-литератором. Нортон улыбался, так как среди девушек была его любимая племянница. Глядя на это чудо жизни, сердце Рэтленда билось, как у Ромео на свидании с Джульеттой в саду. Он был молод, красив, светился добротой и любовью к людям, был уже здоров. И он был гений! Гений слова! Такие люди не могут творить и жить в пустоте, им неотвратимо требуются источники эмоций, по существу, источники счастья! Нечто подобное у скамейки на цветочной поляне он и увидел.
Девушки подняли головки, засмущались и подошли к мужчинам. Граф их обнял, прижал к себе и каждую поцеловал в щёчку. Нортон не смог сдержать своего мягкого смеха: нет! Граф неисправим! Хорошо, что в замке нет его жены. Но всё это было невинно, мило, и больное сердце Рэтленда оттаивало, он отвлекался от прошлого: как Фауст видит прекрасную юность и сам хочет таким быть и жить в ней. Казалось, что этот чудный миг может ещё и ещё продлиться, что ничто группу улыбающихся и смущенных лиц не потревожит. Но нет! Послышались торопливые шаги и, обернувшись, все увидели почти бегущего человека. Вскоре он был перед ними. Нортон напомнил графу, что молодой человек – Дмитрий Евгеньевич, специалист по информационным системам и философ, поклонник Шекспира и Гилилова, а в группе девушек стоит его прелестная голубоглазая дочь Дарина. Она стояла с веточкой незабудки, держа ее у своего лица, словно воплощая «Весну» Боттичелли. Мужчины не сводили глаз с этого образа. Но суровая реальность взяла верх.
Дмитрий Евгеньевич передал графу письма, скрепленные печатями, и пояснил, что эту миссию ему поручил мистер Скревен, спешащий в парк и нечаянно подвернувший ногу; сейчас над ним трудятся врачи. Граф озабоченно вскинул брови, помрачнел, посмотрел на пакеты, и лицо его стало чрезвычайно озабоченным, губы сжались. Извинившись перед друзьями и сев на скамейку, он вскрыл и прочёл письма. Некоторое время сидел молча, затем, пройдя к отошедшей в сторону группе ждущих его людей, сказал, что получил важные новости: в конце февраля в Бельвуар приезжает король с наследным принцем, а через десять дней – родственники графа. «Есть о чём побеспокоиться, – сказал он, – да ещё Скревен незаменимый Скревен, сломал ногу». Тут раздался колокол, предварительно напоминающий об обеде, и все потянулись к замку. Нортон, как истинно русская душа, чувствовал, что везде и всегда заботы, неурядицы приходят одновременно. Стайка девушек, оторвавшись от мужчин, неслась к замку, наполняя теперь уже фаустовское сердце Рэтленда теплом и счастьем.
Ужин в замке
Нортон и Дмитрий Евгеньевич проводили графа до его покоев, где он их поблагодарил их за прогулку и сказал, что надеется всех увидеть за ужином. Граф теперь вечерами был со всеми. И это были не просто застолья, а почти ежевечерние светские вечера, где слушали музыку, пение, танцевали, вели споры, философские беседы, играли в шахматы. Инженеры Гилилова обеспечивали всех разнообразными аудиозаписями, даже иногда для интереса и тяжёлым роком. В красивом и огромнейшем зале столовой было тепло, уютно; здесь всем хватало мест, кресел, диванов, столиков, кофейных приборов и света. Придуманное инженерами меняющееся освещение с голографическими картинами, которое включали в конце ужина, всех не только восхищало, но и завораживало.
Конечно, к ужину все готовились – мужчины и женщины являлись в вечерних нарядах, принятых в светском обществе. Следует отметить, что в группе Гилилова были профессионалы, которые за всем следили. Граф полюбил эти вечера, он был чувствительной в восприятии действительности натурой, любитель тонкого юмора, желая участвовать в различных розыгрышах. Ведь всегда находятся выдумщики в этом деле. Часто был слышен его смех то в одной, то в другой группе гостей. Недаром все ранние комедии Шекспира блещут весельем, юмором, розыгрышами. Любил он также беседовать и слушать учёных, а ведь экспедицию Гилилова представляли учёные люди: кандидаты, доктора наук, различные лауреаты – люди умнейшие, начитанные, умеющие блестяще говорить и много знающие. Но когда рассказывал Рэтленд, то его слушали, что называется, застывая на месте. Он никогда не говорил о Шекспире, не упоминал его произведений, не цитировал их. Его любимой темой было путешествие на континент, и особенно по северной Италии. Он описывал в своих рассказах Венецию, Большой канал, мост Риалто, гондолы, безмерное разнообразие человеческих лиц, караваны купеческих судов, соборы, скромные базилики, театры, картинные галереи, музыку, зовущую в бездну либо в небо; и описывал он то, что видел в XVI веке!
Такие вечера были восхитительными; они преображали всех и самого хозяина замка. Вот где пригодилась учёба и тренинги по английскому языку! Слушать самого Шекспира! Врачи, лечащие графа, этому только радовались, но чётко всё контролировали: и отдых, включая дневной, питание, прогулки, приём ещё некоторых лекарств, витаминов, иммуноукрепляющих средств; каждую неделю контролировали состояние крови. И хотя он от этого подустал, но подчинялся беспрекословно. Вот и сейчас, говоря об ужине с Дмитрием и Александром, он рассчитывал там, в уютном уголке, поговорить с Ильёй Михайловичем на первых порах пока о книге. Уже открывая к себе дверь, граф попросил Дмитрия Евгеньевича зайти к нему в кабинет в восемь часов, если у того это время будет свободным; в ответ прозвучало безусловное: «Si, natürlich».
Маленький заговор
В то время как мужчины прощались до вечера с графом, Илья Михайлович, что называется, блаженствовал в своем кабинете. Он читал редкую и интереснейшую книгу, которую ему принесли из библиотеки его светлости. До самой библиотеки, о которой ходили легенды, гилиловцы и их руководитель ещё не добрались, хотя она была всего лишь на втором этаже замка. Просто людям было некогда. Одна забота сменялась другой; всё нужно было выполнить в срок. Вот и сейчас Гилилов с нетерпением ждал Нортона, ушедшего на прогулку с графом. В дверь не постучали, её распахнули резко и с шумом. В кабинет быстро и решительно вошёл Нортон, за ним ещё один человек. Гилилов его узнал и почувствовал, что произошло что-то очень важное. И оно действительно произошло. Из точного, последовательного рассказа Александра Генриховича он понял основное: граф признался, что он – отец шекспировских произведений и что за ужином потребует книгу Гилилова о себе.
Ситуация складывалась непредвиденная. Эту книгу, уже переведённую на английский язык, Гилилов взял с собою, а в беседе с графом Нортон, по существу, о ней упомянул. «Отказать я ему не могу, но и дать книгу нельзя, – сказал Илья Михайлович, – он её прочтёт, и это чтение станет для него смертельным. Вот в чём дело. Мы об этом не подумали. А как теперь быть? В ней не только мои доказательства, что он и есть подлинный Шекспир; там же, как вы знаете, подробным образом, в том числе в разных главах, описана его ужасная смерть и почти невероятные похороны; то же самое он прочтёт и о своей жене, да ещё об отрубленной голове Эссекса! Мы поставлены в безвыходное положение по формуле „дать нельзя отказать“, что равносильно „казнить нельзя помиловать“. Что же делать?» Нортон предложил скрыть английский вариант и отдать русский, он у него есть. «Ах! Саша! – воскликнул Илья Михайлович. – Да его Пембруки поднимут все посольства, отправят гонцов куда надо, найдут специалистов и переведут книгу до нашего отъезда! Мы просто вели себя очень и очень неосторожно».
Было видно, что Илье Михайловичу становится плохо. Приглашенный терапевт Ольга Васильевна поставила гипертонический криз, сделала уколы и уложила больного в постель. Илья Михайлович просил друзей остаться в его гостиной хотя бы на час и до обеда найти более или менее подходящее решение так неожиданно возникшего вопроса. Ольга Васильевна вышла, а собравшиеся в спальне трое мужчин заговорщическими голосами постановили: книгу не показывать, не отдавать, объяснив, что русский вариант не сочли нужным брать, а на английский её только стали переводить. Это звучало не совсем убедительно, но всё же хоть какое-то объяснение было найдено.
– Конечно, – сказал Илья Михайлович, – статьи, которые я напечатал в Америке и в разных журналах на английском языке, я просмотрю и какие-то ему дам, ну этого мало, нужна книга.
– А книгу, поднапрягшись, можно сделать на основе вашей дискуссионной брошюры, – сказал Дмитрий Евгеньевич, – она у меня есть на русском языке, за два дня мы все вместе, организовав несколько групп, например, четыре, сможем её перевести на английский язык, вставив несколько глав из вашей книги, имеющейся в электронном виде и тоже на английском языке. Это вы, Илья Михайлович, решите, какие главы отобрать; обязательно следует в неё включить иллюстрации, а их у нас очень много, да ещё в цветном исполнении. Если всё это сформатировать и сделать хорошее внешнее оформление, то получится замечательная и довольно объемная книга, графу она непременно понравится.
Этот вариант был принят безоговорочно.
– А как технические средства? Позволят это выполнить? – спросил Гилилов.
– Безусловно, – сказал Дмитрий Евгеньевич, – у нас всё есть.
Сразу же приступили к работе, объявив её чрезвычайно секретной; организовали четыре группы по два человека, распределили русский текст и уже хотели расходиться по кабинетам для выполнения задания, но Гилилов сказал: «Всем пообедать, работать до ужина, то есть до десяти часов вечера; за ужином вести себя как обычно, ничего не выдавая поведением; а сам я не знаю, буду ли там? Скорее, нет, так как у меня пятидневный „карантин“, как сказала Ольга Васильевна». Так, в череде событий этого дня в замке Бельвуар составился небольшой заговор против его хозяина.
Заботы и мысли графа
Пока заговорщики принимали окончательное решение о книге, его светлость, отобедав в кабинете (ему так захотелось), отдыхал на роскошном мягком диване. Обдумав всё произошедшее, он решил не спешить, не бросаться в крайности, дождаться следующего дня, выздоровления Скревена, потом обсудить с ним мероприятия, связанные с приездом высоких гостей, а сегодня за ужином попросить книгу у Гилилова. Его светлость справился у секретаря о здоровье управляющего и, спустя час, сел за письменный стол. Его пьеса называлась «Буря». Он задумал её давно; в голове сложился сюжет, действующие лица, отдельные фрагменты, монологи. Тогда он полагал, что она будет прощальной, реквиемной. Тем более, что в тот страшный кризисный для его состояния период уже была создана ещё одна часть подобного, как бы первый вариант «Жертвы любви».
Теперь, когда ситуация в жизни графа в корне изменилась, а Игорь Витальевич давно обещал в конце курса основного лечения ответить ему на самый трепещущий вопрос о возможности иметь детей, Рэтленд решил изменить задуманный вариант «Бури», но оставить пьесу всё-таки как прощальную с литературным творчеством. Пусть знают, что Шекспир прекращает писать и «ломает свой волшебный жезл». «Я не смогу, как и моя жена Лизи, смириться с этим миром зла и боли. Исправлять его мы сможем только тайно, иначе его адские силы проглотят и уничтожат нас физически, как это было с Эссексом, его друзьями. И если через четыреста лет умные люди нашли подлинного Шекспира, то наш якобы уход с жизненной и творческой арены мы упрячем так, что этого не раскроет никто и никогда. Мы не оставим никаких зацепок, ариадновых нитей, ничего, что потревожило бы наш покой даже посмертно».
Эти мысли молнией пронзили сердце Рэтленда. Прошлое хлынуло в него потоком. Он вспомнил, как жаждал покоя: «Перед глазами ночь! Покоя жажду» (Шекспир. «Юлий Цезарь»). «Забыться и уснуть» (Шекспир. «Гамлет»). «О мои любимые герои – Брут, Гамлет! Я вам вверял себя, свои сомнения, метания, невыразимую боль души, предчувствия, страхи, устремления и отчаянную храбрость. Вы, лучшие мои друзья, вы – моя душа и моё тело, живёте во мне и день, и ночь, выражая всё моё существо до последнего атома! Вы жжёте меня своей судьбой, делами, рождаете чудовищные угрызения совести и бессилие. Но теперь „В такую бездну страх я зашвырнул, что не боюсь гадюк, сплетённых вместе“ (Шекспир. Сонет 112). Однако я должен успокаиваться, ведь на мне ответственность за моих сестёр, братьев, за Лизи, верящую в меня душу ангела. Нам уже не нужна игра, мы уйдём от неё, не будем прятаться за масками, станем сами собой. Теперь домом для нас будет тихая, спокойная, не обремененная страстями любовь; любовь в творчестве, в наших детях, если боги их нам даруют. Мы укроемся в своих сонетах и песнях, в них совьём себе гнёзда для наших сердец, а мир будет где-то рядом. Наши имена ни под какими масками больше не появятся. Оставшись без нас, мир будет продолжать запущенную нами игру в Шекспира. Да, да… Он её непременно продолжит. И если Гилилов привезет, минуя вековые границы, все виды отчётов о том, что Рэтленд – это Шекспир, ему, кроме его приверженцев, не поверят, а в лучшем случае будут сомневаться и продолжат „играть“. Даже если я явлюсь в этот „играющий“ мир собственной персоной, покажу свои рукописи и заявлю всем, что перед ними подлинный Шекспир, разве они поверят? Возможно, но немногие, очень немногие. Ведь от Христа только за одну ночь Петр отрекся трижды!
А сейчас, когда христианская религия победила, в сердцах думающих людей царят неверие, сомнения. Вне этих чувств человек не живёт. Вот и я хотел „уснуть“; „уснуть“ сладостным сном смерти, но страх, что там, „откуда ни один не возвращался“, возможно, хуже и ужаснее, чем здесь; этот страх и сомнения оставили моё бренное тело жить и по инерции продолжать начатую в юные годы игру в Шекспира. Сколько в этом было таинственной романтики и счастья! Они били во мне „кастальским“ ключом, и Аполлон вёл меня за собой! Может быть, благодаря этому я выжил, а не погиб в каменном мешке Тауэра и в ссылке. И я жив по сей день, хотя обострившаяся в заключении болезнь меня гнула до самой земли, превращая в „догорающую свечу“. Друзья и Лизи меня спасли, вытащили из могильной тьмы, заставили жить и бороться с болезнью, депрессией, а эти люди, которых привело сюда могущество Ордена, уже почти вылечили меня. Значит, мир не так плох? В нем нужно жить и продолжать свою борьбу и творчество? Но нет, нет! Я должен остановиться. Врачи не разрешают мне так думать, не разрешают писать… Однако „Бурю“ я закончу, а задуманное с Лизи мы осуществим», – так думал, может быть, и несколько бурно, непоследовательно граф Рэтленд, склоняясь над листом бумаги, где уже давно и чётко стояло слово «Буря».
Граф работал почти три часа. Время шло к вечеру; ему доложили о Скревене. Тот вошел с очередной почтой, которая только что прибыла. Управляющий был здоров, нога его поправилась, и он не хромал. Граф был этому безмерно рад; он вскрыл конверт и, прочтя содержимое, объявил управляющему, что король отправляется в длительную поездку по стране, родственники графа (Пембруки) его сопровождают; визит в Бельвуар, при благополучии дел, состоится теперь в середине лета. Эта новость была благоприятна для всех по понятным причинам, но чувств никто не высказывал, и жизнь в замке шла своей, уже привычной и устоявшейся чередой событий; заботы его не покидали. И разве они могут покинуть массу живущих, работающих, думающих людей с их чувствами, желаниями, потребностями, разговорами и даже неожиданными встречами.

