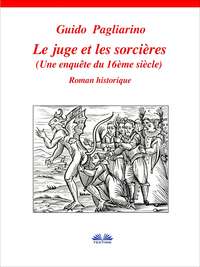Полная версия
Судья И Ведьмы
– Так и есть, сомнений тут не возникает; и если кто-то будет мыслить по-иному, это может дорого обойтись, – строго отозвался я. Я едва собирался пригрозить Понцинибио, как опять вспомнил о его могущественном протекторе и промолчал, а к тому же понял, что он именно так непотребно и думает.
На мое молчания адвокат отозвался:
– Так что же, ваша праведная честь, может снисходительное отношение «Епископского канона» указывает, что наши отцы древности были людьми недалекими? Может ли быть, что когда до одиннадцатого века, до тех пока пытки были запрещены, и всем подследственным гарантировался справедливый процесс, – и Понцинибио, пристально глядя мне в глаза, подчеркнул тоном голоса слово «справедливый», – ведьмы и колдуны были совершенно второстепенным явлением, а позднее число их преумножилось настолько больше, что ныне они считаются одой из самых вящих опасностей? То, что считается снадобьем, не стало ли наоборот прикровением? Как я уже сказал, кто же в силах противостоять мукам или даже лишь ожиданию мук и не объявить себя злодеем? Может ли быть, что в недавние века, когда так стараются прославлять ученость и особо в этом усердствуют, утратился рассудок, который был славой христианства первого тысячелетия? – Наконец он завершил, – Монсеньор Микели молится за вас и страстно желает встретиться с вами, господин верховный судья. Он будет ждать вас в ближайший четверг в своем доме через два часа после восхода солнца. Что мне ему передать?
– Повиновение мое монсеньору полно и беспредельно. Передайте ему эти мои слова и скажите, что приду.
Глава III
Шло утро следующего дня. До моей встречи с монсеньором Микели оставалось еще двое суток.
Я исполнял важное поручение, несомненно по приказу папы, так как дал мне поручение сам блистательный Турибио Фьорилли, князь Бьянкакроче, мирской представитель папы.
Я надеялся довести поручение до конца в ранние послеполуденные часы, чтобы после пойти, как пообещался, к простолюдинке Море, она была гораздо моложе меня, ей едва исполнилось двадцать три года, у нее были черные, пышные волосы, а лицом и статью она походила на русалку; я втайне содержал ее и прелюбодействовал с нею, никогда никому о ней не поведав из опасения тяжелейших наказаний. Ведь я не знал, кому можно доверять, а в те времена еще не постановили ввести исповедальни, которые после Тридентского собора гарантировали кающемуся хоть какую-то анонимность.
И все же я сильно сомневался, что сумею исполнить свой долг вовремя, чтобы бежать к моей Море, хоть и припозднившись.
В душе у меня трепетало необъяснимое беспокойство.
Шагали со мной – все пешком, так как продирались мы сквозь дебри высокоствольного сумрачного леса – один из моих судей a latere Веньеро Салати, шестеро сопровождавших жандармов, а впереди меня открывал путь своим мечом средь ветвей и зарослей лейтенант-командор судебной стражи, Анджело Риссони.
Мы все знали, что преткновения церкви наконец найдут решение, если только мы сумеем в нашем предприятии: протестантская ересь будет истреблена, и прекрасный евангельский путь откроется собранному наконец воедино христианскому народу.
А посему великая радость была в душе у меня и несомненно у всех остальных, насколько я понял по словам, которыми охранники перебрасывались с моим помощником. Эта радость не давала хлынуть наружу нашим тревогам: про наш путь мы ничего не знали и продвигались наугад. Риссони молчал, прорубать дорогу стоило ему всех сил: вблизи залегали болота, и, прежде чем мы дойдем до цели, надо было не угодить в них.
Я помню, как по лбу у меня стекал пот, и мне беспрестанно приходилось утирать капли левым рукавом, а в правой руке, как и мои попутчики, я сжимал обнаженный меч: ведь мы знали, что в чащобе затаились волки и ягуары.
На пути меня поджидал мой старый патрон кавалер Астольфо Ринальди, ставший теперь благородным министром двора Его Святейшества, Ринальди должен был дать нам последние указания; никто из нас не знал, где мы встретимся с ним: нам было сказано, что он сам в надобный момент отыщет нас. Операция была настолько секретной, что даже мы не могли знать точно все ее этапы.
Прошли мы много, а все еще продирались по этой неприветливой пуще. Солнце уже стояло высоко, что я заметил, подняв взор в просвет меж густейшими кронами. Наверняка сегодня повидаться с моей Морой мне не доведется.
И при этой мысли я увидел, как лейтенант-командор в единый миг провалился в землю и исчез: плывун! Напрасно мы с двумя жандармами пытались дотянуться до него, спервоначала погрузив в ил руки и склонившись на самом краю тверди, потом шарили в адском песке подобранной тут же длинной веткою: командора затянуло слишком глубоко.
– Врата ада! – прокричал, уже не сдержавшись, второй офицер, вице-командор нашего маленького отряда. – Его черт утащ…
Я ледяным взглядом заставил его замолчать и приказал:
– Примите командование отрядом! Встаньте во главе цепочки, да поживее, и отыщите нам другую тропу.
Он подчинился весьма неохотно, что можно было понять по выражению его лица и волочащейся поступи.
Я обернулся ко всем и добавил:
– Смелее, и не теряйте надежды! – и обвел одного за другим уверенным и горделивым взором.
«Гордыня!» – прозвучало в тот же миг у меня в голове. Я огляделся, чтобы проверить, слышали ли это и все остальные, но вроде бы никто не слышал; я оробел: кто же то слово произнес?
Мы пошли иным путем, долгое время спустя, уже почти к закату, завидели мы на маленькой полянке кавалера Ринальди, он сидел совершенно один.
– Туда, – молвил он и указал нам пальцем, чтобы мы свернули влево на открывавшуюся тропу в нескольких локтях от нас меж высоких и густейших кустов терновника, засим он окинул меня ненавидящим взглядом и убежал прочь в другую сторону будто страшился.
Наконец по той тропе вышли мы вскоре к морю, на побережье из светлейшего, почти белого песка.
Всех нас выбрали за то, что мы хорошо умели плавать, потому как было нам приказано, как только выйдем к воде, войти в пучину и плыть в открытое море, где ждала нас невидимая с берега лодка Петра.
Так, мы побросали на берегу оружие, вошли в воду и поплыли. Солнце покатилось к закату, и волны вскоре окрасились в оранжевый цвет; и лишь тогда с превеликим омерзением увидели мы, как плавают вокруг нас на самой поверхности воды змеи и прочие отвратительные гады, и почувствовали, как какие-то твари задевают нас за щиколотки и за спины. Один тонюсенький гаденыш в желто-зеленую полоску не длиннее моего среднего пальца чуть не заплыл мне в рот. Как будто и того не доставало, налетели на нас тучи комаров, уйма их села нам на лбы и на веки пить кровь. Мы молились и ободряли один другого, и плыли дальше; вдруг вместо лодки Петра разглядели мы к нашему горчайшему удивлению противоположный берег: оказывалось, что не море Чистоты духовной, к которому направлял нас папа, обволакивает наши тела, а плывем мы погруженные в пространную лагуну с соленой водой.
Мы уже почти совсем обессилели, но поплыли к тому берегу, в то время как гады еще большим числом терлись об нас; наконец мы выбрались на пляж.
Что делать ныне? Мы, тяжело дыша, свалилась на песок, но вскоре:
– Вперед! – властно приказал я и вскочил на ноги, влекла меня внезапно накатившаяся горделивость. Уже почти стемнело.
И мы зашагали; но едва мы сделали несколько шагов, как необычно безмолвное землетрясение вмиг разверзло под нами землю, распахнулась пропасть и заглотила Веньеро Салати, который шел рядом со мной, и всех остальных, кроме меня: надо же, в последнюю секунду из молочно-белого марева чудом протянулась ко мне рука с епископским кольцом на пальце, мигом дотянулась до меня и ухватила за шиворот.
И тут я пробудился, у себя в спальне: была еще ночь с понедельника на вторник.
Лишь позднее я осознал смысл этого кошмара. Были там как грядущие события моей жизни, так и будущее мое и моих помощников: сколько-то лет спустя папа Павел IV в соперничестве с равносильными деяниями протестантов опять разжег крайне ревностную охоту на заблудших овец, каковой ужаснее доселе не бывало. Будущий кардинал Габриеле Микели выступил против убийственной воли папы и добился самую малость, чтобы некоторых из подследственных осудили на содержание в застенке, а не на смерть: чтобы вместить всех заключенных, тюрьму инквизиции расширили. Массовые избиения все равно прокатились страшной волной и в числе прочих погубили лейтенанта-командора Анджело Риссони и Веньеро Салати, который за много лет до этого стал верховным судьей вместо меня. Кардинала Микели по непосредственному указу Его Святейшества без суда заточили в темницу и освободили лишь после смерти оного блистательного папы. Один лишь я уберегся от всяческих гонений, через год после того дантовского сновидения я удалился в затворническую обитель и жил как простой смертный, забытый всеми кающийся грешник, и вот невредим по сей день.
А поначалу смысла иносказания я не уразумел, но что я почуял тотчас и ясно, так это то, что восклицание посередь кошмара – «Гордыня» – было остережением, и что исходило оно от Блага, а не от сатаны.
Глава IV
На следующий день после обеда, когда я нес службу в судебном приказе и отдавал распоряжения лейтенанту-командору, прискакал ко мне один посыльный, сельский стражник из Гроттаферраты. В присутствии охраны он передал мне, что приходской священник его села чувствует себя при смерти и перед кончиной желает поговорить со мной об одном наиважнейшем деле. Он умолял меня не отказываться.
По правде говоря, я в тот день намеревался побывать у Моры. Оттого с большой неохотой и после долгих колебаний ответил я посыльному согласием, да по-иному поступить я и не мог, раз свидетелей вокруг было много: как верховный судья я должен был быть примером чувства морального долга и милосердия. Но попросил его, чтобы он дождался меня, так как скакать в одиночку по опасным дорогам я не собирался, как и не собирался по служебным соображениям отрывать судебную стражу от ее дел; и попросил также – и он меня заверил – чтобы он сопроводил меня потом и обратно в Рим.
Возлюбленную свою я известить не смог; но поскольку не приходить из-за своих обязанностей мне было не впервой, я был уверен, что беспокоиться она не станет. С другой стороны, она прекрасно знала, что обязана мне всем, и никогда ни на что не сетовала.
По пути с нами ничего дурного не приключилось, и к вечеру мы доехали до села.
Стражник повел меня прямиком к дому священника. Нам открыл молодой священник, который заметно вздрогнул, когда я представился.
– Святой отец только что исповедался, и он еще в сознании, – приглушенно сказал мне священник, пока вел нас вверх по лестнице в комнату своего наставника. – Я уже причастил его и соборовал, и это как будто придало ему сил, потому как речь его стала громче и отчетливее.
«Это улучшение, которое обычно предшествует смерти», – невольно подумал я; и тотчас меня охватило смятение: как добрый христианин я верой признавал чудотворные свойства елея; так отчего же пришла мне в голову такая богохульная мысль? Сомнений не было, наверняка, черт наслал. Может не хочет, чтобы я разговаривал со священником? Я перекрестился и зашептал молитву прямо в тот момент, когда входил к умиравшему, за мной вошли молодой священник и стражник, который поднялся вместе с нами. Они наверняка подумали, что я читаю молитву за умирающего, что, впрочем, я и намеревался сделать.
Обставлена крохотная комнатушка была скудно: монашеская скамья, несколько деревянных необструганных книжных полок, да три сколоченных доски на козлах, которые служили кроватью, на доски была набросана солома. Комнату с трудом освещали две свечи.
Приходской священник как будто дремал; но на наши молитвы открыл глаза и с облегчением на лице повернул голову в мою сторону, послышался его стон.
– Это вериги, – прошептал мне на ухо молодой священник, как только я завершил молитву, – он их много лет носит и не захотел, чтобы я снял с него бремя даже ныне.
– Выйдите и оставьте нас одних, – велел я ему. – И ты тоже, – обернулся я к стражнику, – сегодня о возвращении и речи быть не может. Переночую тут. Приходи сопроводить меня в Рим на заре; а тем временем испроси на то дозволения у бургомистра, сошлись на меня.
Когда мы остались одни, священник сделал мне знак подтащить скамью к его убогому ложу.
Как только я уселся рядом, он повел рассказ; и чем дальше он рассказывал, тем шире раскрывался у меня рот.
Он поведал мне об Эльвире, той ведьме, против которой он давал показания несколько лет назад.
Эльвира, еще в юных летах, преодолев всяческие напасти, пришла из Беневенто, из того города ведьм, в окрестностях которого, как рассказал демонолог Спина в своем трактате, они собираются под ореховым древом и вершат одни ужасные дела и замышляют другие. Мать Эльвиры была одной из них. Я уже знал о той ведьме, читал про нее в книге ученого доминиканца. Как-то раз сидела она как стервятник на нижней ветке орехового дерева, разведя ноги, и проходил там в одиночку молодой купец, был он горбуном, но очень красивой наружности, и речи вел как дворянин; завидел он ведьму, которая была, между прочим, женщиной очень красивой, хотя и не совсем молодой, выставленное напоказ срамное место возбудило его, и он завел с нею похотливый разговор. Она тоже тут же воспылала к нему желанием, но воспылала по зову самой скотской противуествественной бесовской похоти, и пообещала, что навсегда уберет у него горб, если он согласится удовлетворить ее желание. Так и случилось. После чего купец пошел дальше в Беневенто, он остановился в харчевне, вкушал с сотрапезникам яства и стократно с жаром подымал чарку, весь раскраснелся от удовольствия, и прежде чем проследовать далее своим путем, рассказал, что с ним случилось под орехом, много раз показывал спину, поворачивался то одним боком, то другим, чтобы все хорошенько разглядели, и клялся, что до похотливой встречи с колдуньей на спине у него был большой горб. После чего, посмеиваясь, ушел навстречу своей неведомой судьбе, и власти не успели допросить его. И так, не смогли узнать, как выглядела похотливая колдунья, чтобы арестовать ее и отдать под суд. А тем временем слух мигом разлетелся по городу, и один кузнец, тоже горбун, отправился к ореховому дереву в надежде встретиться там с прекрасной колдуньей и тоже понаслаждаться вящей страстью, о которой хвастался купец, а прежде всего, чтобы ему навсегда убрали горб. Ведьму он встретил, но был кузнец так уродлив ликом и так вонял перегаром от излишеств пития, что ведьма разгневалась и не только не стала совокупляться с ним, да к тому же, вместо того, чтобы убрать у него горб, насадила ему на его горб еще и горб купца. Бедный кузнец вернулся на городскую площадь в потрясении и рассказал всем, кто там был о своем несчастье. По разумению одних горб у него и вправду стал вдвое больше; другие полагали, что горб стал больше всего ненамного; а третьи считали, что – но по мнению Спины они хотели только лишь утешить несчастного и правды ему не говорили – горб каким был таким и остался. Два городских стражника у входа в муниципалитет услышали пересуды и немедля задержали рассказчика. Вскоре местный инквизитор заполучил от кузнеца внешнее описание ведьмы, и потому как дознаватель знал всех своих горожан, он сразу же опознал ее в лице некоей целительницы и повитухи, о которой ходила недобрая молва. Так, вскоре городская стража арестовала ее у нее дома: инквизитор сразу догадался, что поскольку она, как все ведьмы, умела летать, она должно быть прилетела домой раньше, чем дошел до Беневенто несчастный заколдованный кузнец. Из трактата Спины следовало, что дочь той ведьмы, незамужней, была без всяких сомнений плодом совокупления женщины с чертом, и люди об этом сразу же догадались, изловить дочь все же не удалось. От приходского священника я узнал, что в момент ареста матери девушки дома не было, а когда она вернулась, люди видели, как ее силой затащил в свою лавку молодой городской портной, еврей, которого в городе недолюбливали и частенько поносили, и который укрыл ее из сочувствия к гонимым, а еще потому, что красота девушки его давно зачаровала. Пока Эльвира пряталась у него лавке, ей пришлось мучительно страдать, слыша как жутко кричит мать, которую пытали в темницах суда неподалеку; всего лишь через два дня женщину приговорили к костру, и, чтобы утихомирить бесившуюся чернь, без промедления сожгли, не одарив жалостию удушения, дабы народище, наслаждаясь ее криками, полнее оценил свершившуюся справедливость. Был вечер, и воспользовавшись тем, что возбужденные горожане сбежались к костру, девушка бежала из города, а вместе с ней скрылся и портной, который города уже терпеть не мог, а главное он испытывал нежные чувства к расцветавшей юнице и посему предпочел уйти из Беневенто. Эльвира издали видела, как мать пылала на костре и слышала ее последние душераздирающие крики. Молодые люди стали жить вместе бродячей жизнью, портной шил одежки, переходя из города в город, а Эльвира торговала соломенно-золотистой настойкой, на вкус изысканнейшей, уверял священник, который не раз пробовал ее, а делать настойку Эльвиру научила мать. Все это Эльвира сама позднее рассказала протоиерею, к которому она в конце концов пришла беременная и претерпев всяческие мытарства, она попросила у него приютить ее: она только что бежала из разбойничьего стана, где ее много лет держали в рабстве, так как однажды у дороги их с портным схватили, и портного убили. Священник сжалился над ней и нашел ей место служанки в благочестивой семье нотариуса, где она смогла спокойно произвести на свет девочку, которую ей разрешили оставить жить у себя на чердаке и растить ее. К сожалению, жил с ними брат главы семьи, он тоже был законоведом, но норова он был совсем другого: лентяйничал, едва дотянул до ученого звания, заниматься делом не желал и прокутил все отцовское состояние. В то время из сострадания содержал его и одевал брат, пока пытался подыскать ему приличное занятие, и стоило ему это больших усилий. Как только после беременности Эльвира выправилась статью, тот развратник воспылал к ней желанием и попытался овладеть ею силой; но Эльвира телом была мускулиста и сильна, да еще более закалила ее бродячая жизнь, в потасовке она переборола его и оглушила подсвечником. На крики служанки прибежала к концу потасовки хозяйка дома и все видела. Разорванная на девушке одежда и синяки не оставляли сомнений в виновности развратника; но ведь он был нотариусу братом. Что же делать? Те добрые христиане не хотели, чтобы девушка и далее терпела злые намерения брата; но ведь он все равно был родней. Думали да гадали, думали да гадали, и наконец дали ей денег, на которые она могла уйти из дома, а по возможности и из села. Но несчастная Эльвира, дочка у которой была еще совсем маленькой, предпочла поселиться в хибарке на опушке леса. Здесь она стала заниматься перенятым от матери искусством – делала и продавала настойки и целебные отвары да помогала селянкам при родах: избранное ремесло и стало главной причиной ее беды; но сказалось также и то, что она занималась продажей перелетных птиц, которых умела ловить в сети и держала в большой клетке в ожидании покупателей.
Четырнадцать лет Эльвира прожила довольно спокойно. По правде говоря, кое-кто, бывало, именовал ее в шутку ведьмой; но гонений на нее не было. К ней даже не раз сватались. Но к мужчинам они питала отвращение и от всех предложений отказалась.
Попервоначалу дважды ей пришлось вывертываться из рук брата нотариуса, который не раскаялся и приходил к ней заключить ее в объятия, но облапить ему Эльвиру не удалось, так как Эльвира всегда от него оборонялась. Оттого он возненавидел ее люто, в то время как желание его к ней возросло настоль же неуемно. К счастью, в конце концов родня нашла ему должность в Риме, и он уехал, оставив Эльвиру в покое.
В числе ухажеров Эльвиры был и тот деревенский пьяница Ремо Бруначчи, который погубил ее, она всегда со смехом прогоняла его. Когда он под винными парами пришел к священнику и заявил, что Эльвира колдовством отняла у него мужской член, священник понял, что он просто-напросто пьян и что исцелит его воздержание от пития. Поэтому священник сделал вид, что проверяет у него промеж ног, будто мужских принадлежностей и впрямь нет, а потом запер Бруначчи в конурке, чтобы он протрезвился, благодаря и испитию большого количество воды: простой воды, не освященной, это протоиерей приплел про освященную воду, чтобы Бруначчи приободрился. Последствий священник не предусмотрел. В селе насчет Эльвиры зашептались, потом послышались возгласы, что ее надо изловить. Хуже того, в те дни приехал в село навестить нотариуса судья Астольфо Ринальди.
– Ринальди! – эхом воскликнул я при имени моего старого патрона, прервав тем рассказ умирающего.
Это он был братом нотариуса. Благодаря влиятельным родственникам невестки его взяли на службу в римский суд, где он дослужился до высшей должности. Может именно он, спросил я себя, потом опустил анонимное письмо в специальный ящик инквизиции в Риме? Из мести? Впрочем, приходской священник тоже, испугавшись как складывается дело, а в особенности грозных взглядов, которые судья бросил на него перед самым отъездом, в свою очередь принес в сельскую жандармерию свой официальный донос, который сразу же отправили в Рим. Священник струсил, он побоялся поплатиться собственной жизнью, более того, рассудил, что так скорее всего и будет, ведь он станет не первым священнослужителем, которого арестуют, будут пытать и осудят за соучастие в колдовстве. Остальное я знал, я сам довел дело до необратимого конца. От угрызений совести за лживые показания, тем более, что дал он их в клятве перед Богом, приходской священник после суда стал жить в нищете в той конурке, где сидел в свое время Бруначчи, стал носить вериги, стал подвергать себя всяческим уничижениям, отказался от каких бы то ни было радостей, даже самых невинных. Перед смертью, поскольку отпали все опасения, которые сковывали его впоследствии – пусть то были всего лишь муки совести, – он наконец решился уведомить меня, потому как пострадал еще один человек, на этот раз Мариетта, белокурая, хорошенькая подросшая дочка Эльвиры. Когда святой отряд стражи постучал в дверь, мать догадалась, что нагрянула беда, она спрятала Мариетту под кровать, шепотом наказав ей ни в коем случае не шевелиться и не испускать ни звука, что бы ни случилось. После того, как инквизиторы увели Эльвиру, девчонка вылезла и, не зная кто забрал мать, побежала к приходскому священнику, и объявила, что мать похитили. Протоиерей знал про арест, разъяснять девочке ничего не стал, более того, он сказал ей, что для Эльвиры уже ничего сделать нельзя – уж давно было известно, что для этого никаких жандармов не хватило бы! – и поэтому пусть девочка перестанет терзаться. В тот же день он устроил Мариетту служанкой в одну крестьянскую семью. Но после казни матери, Ринальди вернулся в Гроттаферрату с тремя стражниками римского суда, взял под стражу Мариетту под предлогом продолжения дознания и увез ее в Рим. Может быть, нанеся удар и дочери, он хотел отомстить матери? Священник просил меня во имя справедливости разобраться в деле, и на законных основаниях, которых он не знал, если окажется, что совершено преступление, наказать виновного; а главное, разузнать по возможности, что стало с девочкой, и если она еще жива, уберечь ее от прочих злоключений. Только так он сможет умереть спокойно.
Я пообещал умиравшему, что постараюсь по мере своих сил восстановить справедливость.
Весь остаток ночи я проворочался в постели в богато обставленной комнате, где священник проживал раньше, и даже под мягчайшими простынями и на удобном матрасе не сомкнул глаз.
К полуночи священник преставился, я расслышал, как молодой священник бормотал молитвы, но не встал и не присоединился к нему.
Охватило мою душу ощущение великой усталости. Я не чувствовал угрызений совести за неправедный приговор Эльвире, ведь я действовал, как всегда, по закону и по совести; но тяготила душу докучливая тревога и едва ощутимая тошнота, которая не отступила до самого утра.
Глава V
С восходом солнца я совершил молитву над телом приходского священника и отправился в путь; отправился один, не ожидая прихода стражника. Выехал, не подумав; но, рассуждая здраво, я сейчас чаю, что – хоть разум мой это и отрицает – в лице великой опасности тогда возвращаться в одиночку я неосознанно желал накликать на себя кару. С другой стороны, обладал я – и обладал все свою жизнь – большой физической силой; я отлично умел сражаться на мечах и на кинжалах, носить которые у меня, как магистрата, было право. Ведь мой отец, как только меня приняли на службу, послал меня брать уроки к своему заказчику, учителю фехтования Хосе Фуэнтесу Виллате, мужчине худосочному, но крепкому и очень высокому ростом, почти на локоть выше меня, что для жителя Средиземноморья очень редко: он в свое время был очень способным личным телохранителем Александра VI, а после смерти Борджиа зарабатывал себе на жизнь, давая уроки в своей школе фехтования. С некоторого времени, будучи уже немолодым, но все еще искусным фехтовальщиком, он встал во главе личной охраны бывшего судьи Ринальди.