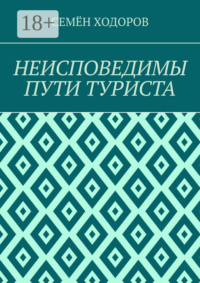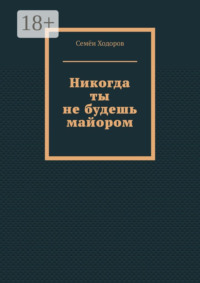Полная версия
Иосиф и Сталина
Омрачила званый ужин у семьи Перельман лишь одна фраза, произнесённая Эльвирой. Когда кто-то за столом вспомнил, что сегодня рождество христово, она приподнялось со своего места и тихо, но внятно, произнесла:
– Я прошу прощения, но это ни ваш и ни мой праздник.
Отец Иосифа, хитро прищурив глаза, спросил:
– Почему не наш, понятно. А вот, почему не твой, Эльвирочка?
– Да потому, что мы все живём в дружной семье народов СССР, – потупив глаза в стол, ответила она. – По этой причине, приход в религиозные храмы не приветствуется. Это, во-первых. Во-вторых, я по национальности татарка, хотя в мечеть тоже не хожу, как, полагаю, и вы не посещаете синагогу.
Это высказывание Эльвиры произвело на Марка и Соню эффект бомбы, которая, несомненно, разорвалась, если бы она находилась в их доме. Причём не столько слова «семья народов», «синагога» и «мечеть», сколько её национальность – татарка. Потом родители скажут Иосифу, что в Эльвире им понравилось всё, абсолютно всё, кроме её национальности. Отец, поднимая большой палец вверх, назидательно произнёс:
– Послушай, сынок, Эльвира очень привлекательная девушка и есть за что любить её. Это видно даже невооружённым глазом.
– Нет, это ты послушай, папа, – рассердился Иосиф, – если ты дальше скажешь, что, однако есть и за что не любить её, то эта тирада не для моих ушей.
– Не любить её, – вступила в разговор мать, – можно только потому, что она не нашей веры.
– А я и не знал, мамочка – поддел её Иосиф, – что ты каждый день ходишь в синагогу вымаливать, не совершённые мною, грехи.
– Да и в чём, собственно, состоит мой грех, мамочка? – плаксиво вопросил её сын, – неужели в том, что я искренне, совершенно чисто, полюбил замечательную девушку.
Отец хотел было, что то возразить ему, но Иосиф, приложив свой палец к его губам, с жаром продолжил:
– Жаль, что вы не видели, как Эльвира дала отпор одному антисемиту, который обозвал Райкина словом жид. Досадно, что не слышали, как она налетела на меня, что я промолчал при оскорблении моего, как вы это называете, единоверца. А вы говорите – татарка. Да она, если хотите знать, больше еврейка, чем я – еврей.
На следующий день Иосиф был приглашён на ужин в семью Башировых. Стол ломился от яств татарской кухни. Эльвира с видимым удовольствием накладывала Иосифу в тарелки деликатесы, поясняя при этом, что есть что.
– Вот это отварное мясо с лапшой называется бешбармак, справа от тебя – очень вкусная лепёшка под именем кыстыбый, а слева, обязательно попробуй обалденный пирог – зур-бэлиш.
Но главным деликатесом в застолье был отец Эльвиры, Закир Ренатович Баширов. Если не с первой, то уже со второй минуты знакомства с ним, Иосифу казалось, что они знали друг друга много лет. Он ошибочно полагал, что глава семьи Башировых работает художественным руководителем театра или редактором журнала или газеты. На самом деле Закир Ренатович был профессором, имел учёную степень доктора технических наук и работал заведующим кафедрой мелиорации в сельскохозяйственном институте. Несмотря на учёные регалии, это был контактный, общительный и очень обаятельный мужчина. Похоже, что дочка унаследовала от отца как когнитивные способности, так и искусство ненавязчивого общения.
Ужин удался на славу и, когда Иосиф уже собирался уходить с гостеприимного дома Башировых, Эльвира приблизилась к отцу и, взяв его под руку, попросила:
– Папочка, дорогой, мне нужны ключи от дачи. Я обещала Иосифу, что мы здорово отдохнём там от наших праведных физико-математических трудов.
Закир Ренатович посмотрел на Эльвиру каким-то странным обескураженным взглядом и виноватым голосом промолвил:
– Не хотел тебе говорить, дочка, в присутствии этого приятного молодого человека, но так получилось, что нет у нас дачи, нет у меня работы, нет квартиры, где мы сидим и нет для нас города Казани.
– Что значит, нет, папочка, – забеспокоилась Эльвира, – тебя что в тюрьму посадили с конфискацией имущества или ты так неудачно пошутил.
Она глянула на, незаметно вытирающую слёзы, мать и решительно потребовала рассказать ей, что происходит в доме.
– Тут, доченька, такое дело, – нерешительно вымолвил отец, – что меня переводят на другую работу в город Ташкент на должность ректора института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.
– Что значит переводят? – сквозь слёзы промолвила Эльвира, – ты что не мог отказаться?
– Значит не мог, доченька. Меня вызвал к себе министр и не попросил, а, по сути дела, приказал. Кроме всего, пойми милая, это огромное продвижение в должности, значительное увеличение зарплаты и повышение статуса. К тому же, нам выдают пятикомнатную квартиру в центре города и машину с персональным водителем.
В какой-то момент Иосиф сообразил, что вряд ли уместным ему будет оставаться при разговоре, касающегося только членов семьи. Он тепло попрощался с растерянными родителями, ободряюще кивнул Эльвире и поспешил ретироваться прочь. Уже на улице она догнала его и скороговоркой произнесла:
– Прости за непредвиденное. Жду тебя завтра в полдень в кафе «Сказка».
Однако, встреча в кафе с чудодейственным названием ничего волшебного не принесла. Иосиф сразу заметил в глазах подруги ещё невысохшие слёзы.
– Что-то случилось, Эля? Надеюсь, ничего непоправимого, – участливо спросил он.
– Ты почти угадал, – прошептала она, доставая носовой платок, – произошло необратимое, то что нельзя повернуть в обратную сторону.
Иосиф, поглаживая её руки, сострадательно смотрел на всхлипывающую подругу, терпеливо ожидая, что она скажет. Он не узнавал в ней задорную, динамичную, всегда воинственно настроенную девушку, какой видел её в обычном повседневье. Эльвира, судорожно проглатывая окончания слов, с трудом выдавливала из себя:
– Пропали дни, а может быть и ночи, которые я мечтала провести с тобой на даче. А ведь я столько думала об этом, мне даже по ночам снилось, как мы с тобой целуемся на берегу Камы.
Из соображений скромности Иосиф счёл нужным не рассказывать Эльвире, что после обещаний их времяпровождения на даче, оно грезилось ему не только ночами, а даже днём, затмевая при этом витиеватые ряды математических формул. Всматриваясь в потухшие глаза друга, огорчённая до крайности, Эльвира продолжила:
– Ты не понимаешь, Осенька, что пропали не только дни и ночи, рухнуло всё, всё полетело ко всем чертям…
– Ничего не понимаю, – отозвался Иосиф, целуя ей руки, – что рухнуло, что полетело и где они эти черти?
Эльвира, не стесняясь людей, заполнивших кафе, взгромоздилась ему на колени и не своим голосом запричитала:
– Отец мой сказал, что через две недели мы должны переехать в Ташкент, что при этом я прекращаю учёбу в интернате, что меня там ждут другие, задуманные им, проекты.
При этих словах Эльвиры у Иосифа внезапно закружилась голова. Впервые, в своей не очень продолжительной жизни, у него что-то скрючилось в области сердца и он вдруг почувствовал острую боль в таких местах, которые врачи не могут определить. Похоже, что это стонали тайники души, известные только неведомым субстанциям на краях Вселенной. Когда вдруг в пространном окне кафе в крупных хлопьях ниспадающего снега исчезли вдруг искрящиеся лучи янтарного солнца, он явственно понял, что старик Эйнштейн не ошибался в утверждении об ограниченности мироздания.
Это космическое запределье сузилось ещё больше, когда поезд медленно отходил от платформы казанского вокзала и заплаканная Эльвира надрывно кричала:
– Ещё встретимся! Я люблю тебя очень, люблю-ю-ю!
Глава 6
Высотка на Воробьёвых горах
Три года учёбы в интернате пролетели, как несколько мгновений. Одним из них, наверное, самым чудным являлось время, проведённое с Эльвирой. Все остальные были связаны с накоплением глубоких знаний по, уже не элементарным, математике и физике. Да и на самом деле в каждом отрицательном явлении всегда надо искать положительные моменты. Разлука с любимой девушкой больно ударила по душевному состоянию Иосифа. Однако, с другой стороны, совсем ненавязчиво заставило его с утроенной энергией вникать в тончайшие нюансы изучаемых наук. Все выпускные экзамены он сдал на отлично, что позволило ему беспрепятственно, минуя витиеватый путь конкурсных вступительных испытаний, поступить на физический факультет столичного университета.
Это было достижением не только научным, а и, в некоторой степени, социальным. Ведь, если бы он сдавал вступительные экзамены на общих основаниях, то факт его провала на них совсем не исключался из-за записи в пятой графе советского паспорта. Порукой тому было много еврейских фамилий, находившихся в списке, получивших неудовлетворительные оценки. Конечно, некорректно было бы думать, что все эти фамилии были внесены в этот список безосновательно. Однако, с большой долей вероятности, можно было предположить, что совсем немаленькая часть из них находилась там незаслуженно. На устных экзаменах к ним придирались, задавались, так называемые, «вопросы на засыпку», ответы на которые требовали долгих рассуждений и сложных расчётов. На некоторые из них было просто невозможно ответить, другие просто не имели правильного ответа. По всему получалось, что эти вопросы были нужны не для того, чтобы проверить знания студентов, а для отсеивания «неугодных», к которым понятно, по непонятной причине, относились евреи.
Академик Сахаров отмечал, что одну из предлагавшихся еврейским абитуриентам задач он сам решил с трудом в результате часовой работы в условиях тишины и покоя у себя дома, а у абитуриента было всего 20 минут во время экзамена при недоброжелательном экзаменаторе. При этом академик использовал свой значительный опыт в решении сложных математических проблем, а также большой запас, совсем не школьных, знаний.
Академик Игорь Шафаревич, говоря о таких приёмных экзаменах, писал, что на них, по сути дела, происходила борьба, война с подростками еврейской национальности, почти детьми. Им задавали бессмысленные или двусмысленные вопросы, сбивающие с толку. Трудно было не заметить, что поступающих для экзаменов делят на две группы, находящихся в разных аудиториях, причём из одной выходили со сплошными двойками, а из другой – с четвёрками и пятёрками. Понятно, что в первой находились абитуриенты-евреи.
Подтверждением этого является обширное исследование, выполненное отцом одного из абитуриентов. В нём изучались результаты поступления на мехмат выпускников нескольких московских школ с углублённым изучением физики и математики, которые традиционно давали МГУ заметную часть лучших студентов. Здесь они также распределялись на две группы. Первая из указанных групп состояла из поступающих, среди родителей, дедов и бабушек которых нет ни одного еврея. Вторая группа составлялась из выпускников еврейской национальности этих же школ. Приёмным экзаменам на мехмат подверглось 64 выпускника указанных школ: 49 поступающих из них составили первую группу, 15 – вторую. В списках принятых оказался 41 человек из первой группы и двое из второй. Причём принятая абитуриентка второй группы оказалась дочерью профессора мехмата, второй принятый абитуриент этой группы был сыном известного физика-теоретика. Похожая картина наблюдалась в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ), где первая группа составила 54 человека, из которых принято 36, вторая группа – 29, из которых поступили только трое. А в Московском физико-техническом институте (МФТИ) – первая группа насчитывала 53 человека, из которых студентами стали 39, а вторая группа – 32 абитуриента дала четверых принятых.
Вряд ли такая статистика порадовала бы Иосифа. Ведь, несмотря на то, что он обладал прочными знаниями, вполне мог оказаться во второй группе среди «проваленных» непорядочными экзаменаторами. Нетрудно догадаться, что, если на его отце висело клеймо – сын «врага народа», то единственное, чем он провинился перед тем самым народом, что был сыном еврея.
Однако эти числовые данные не были известны Иосифу и он не находился среди абитуриентов, принимающих участие в конкурсе. Как бы там ни было, но выпускник физико-математического интерната Иосиф Перельман стал студентом физического факультета, как ему тогда казалось, самого лучшего университета в мире. Обрадованные родители, Марк и Соня, не верили своим глазам, когда сын предъявил им, ещё пахнувший типографской краской, студенческий билет Московского государственного университета.
Счастью Иосифа не было предела. С этим чувством он и переступил порог знаменитого учебного заведения. В первый же день учёбы он так спешил на первую лекцию, что на этом самом пороге главного корпуса сбил с ног пожилого седого мужчину. Когда Иосиф, с тысячами извинениями, приподнял его с пола, тот, отряхивая свой костюм от пыли, с виноватой улыбкой спросил:
– И куда вы так мчитесь, что академиков на ходу опрокидываете?
Растерянный Иосиф едва слышно пробормотал в ответ:
– Извините, товарищ академик, у меня первая лекция по математике в этом университете, мне никак нельзя опаздывать.
– Похоже, что мы с вами вместе опаздываем, – улыбнулся академик, – как раз я и читаю вам эту лекцию.
– Так что давайте знакомиться, – непринуждённо продолжил он, протягивая руку, – я ректор университета академик Петровский, а вы.
– А я, первокурсник Иосиф Перельман, – дрожащим голосом произнёс недавний абитуриент.
Когда он назвал свою, не очень форматную для этого храма науки, фамилию, ему подумалось, что вряд ли она произведёт на ректора неизгладимое впечатление. Он поймал на себе удивлённый взгляд академика, в котором, якобы, читалось:
– И как это, парень, я пропустил тебя в свои владения? Неувязочка какая-то приключилась.
Впрочем, Иосиф был никудышным читателем чужих мыслей. Да и откуда было ему знать, что когда в 1951 году вопрос о назначении Петровского рассматривался на заседании Политбюро ЦК КПСС, выяснилось, что он был беспартийный. Тогда Сталин спросил у членов Политбюро:
– Ну, а человек-то он наш?
Маленков ответил, что Петровский, несомненно, наш, советский человек. После чего Петровского утвердили на должность ректора. При этом Сталин обнадёжил всех, сказав:
– Всё равно он будет в нашей партии.
Но надежда Сталина не подтвердилась. Академик Петровский так и не подал заявление о вступлении в партию, несмотря на то, что более двадцати лет на посту ректора руководил МГУ. Не секрет, что партийная организация университета терпеть не могла академика Петровского, проводившего линию, противоположную той, на которую она опиралась. Это касалось также и политике проведения конкурсных экзаменов, вообще, и отношению к приёму в университет представителей еврейской национальности, в частности. Трудно сказать, как ректор, в этом отношении, проводил свои взгляды в жизнь. Однако академик Яков Григорьевич Синай, профессор МГУ, а потом профессор Принстонского университета вспоминал, что вступительный экзамен по математике при поступлении в Московский университет он не сдал по причинам, причастным к его анкете. Тогда ученики его деда, которые тогда работали в университете, пошли к ректору Петровскому. История умалчивает, как прошла процедура исправления результатов вступительного экзамена, но будущий академик, еврейский мальчик Яша, стал полноправным студентом МГУ.
Известный физик Юрий Черняк вспоминал, что история его жизни в МГУ тоже была связана с пятым пунктом советского паспорта. Началось с того, что, несмотря на отлично сданные экзамены, он не был зачислен на учёбу. С 1956 по 1967 год было короткое «окно», когда появилась небольшая квота по приёму евреев на вечернее отделение. Так Юрий стал студентом физического факультета. При этом у него появилась мысль окончить университет за три года. Будучи студентом первого курса, он на одни пятёрки сдал экзамены по математике и теоретической физики за пять семестров, только по истории КПСС была тройка. По настоянию ректора Петровского Юрия перевели на дневное отделение. Но радоваться было рано, декан факультета, большой антисемит, устроил ему ловушку: благодаря его козням, студент Черняк сдавал часть экзаменов после сессии. За это его исключили с нелепой формулировкой «академическая неуспеваемость». С дрожью в ногах он переступил порог кабинета ректора Петровского, которому рассказал о произошедшем. Посмотрев зачётку Юрия, академик рассвирепел и, схватив телефонную трубку, позвонил декану и тут же выпалил:
– Если бы у меня был такой студент, я бы каждое утро за ним посылал машину, а потом отвозил обратно. Я считал бы за честь иметь его на факультете, а вы его отчисляете за неуспеваемость.
Сомнительно, что тоже самое Политбюро ЦК, которое утвердило Петровского ректором, одобрило бы его за эти поступки.
В начале лекции академик Петровский, обращаясь к первокурсникам физического факультета, сказал:
– Вы никогда и нигде не встретите столько талантливых людей на одном квадратном метре площади, как в МГУ.
Академик был абсолютно прав. Это касалось, может быть не совсем в равной степени, как преподавателей, так и студентов.
– Чем МГУ отличается от других вузов? – как бы сам себя спросил ректор.
– Только коллективом, – ответил он уже студентам. – Ведь язык науки один и тот же во всём мире, а вот диалекты разные. Ведь университет – это, прежде всего, люди в данный момент времени. У нас же собрались такие люди, которые понимают свою задачу. Мы обучаем студентов по своим собственным стандартам и стандарты эти очень высокие.
Только потом Иосиф поймёт, что перед студентами ставились вовсе непростые задачи. Вместе с тем, давались большие возможности, в соответствии с которыми каждый мог реализовать себя в выбранной области физической науки. Однако поначалу необходимо было срочно войти в этот непростой и тернистый, но в тоже время захватывающий ритм студенческой жизни. Несмотря на то, что Иосиф прошёл горнило интерната, нелегко было окунуться в научное многообразие изучаемых предметов. Его просто поглотил настоящий калейдоскоп теоретических лекции и практических семинаров, нескончаемая круговерть различных коллоквиумов и лабораторных занятий, сложные курсовые проекты и рефераты по различной тематике. Хотелось успеть проработать все установки наставников, разобраться в хитросплетениях задаваемых задач и поучаствовать в исследованиях, предлагаемых преподавателями. Самым увлекательным в дальнейшем обучении для Иосифа, пожалуй, была возможность поработать, так сказать, на переднем крае науки и приложить свои наработки в процессе экспериментального подтверждения новых теоретических идей и гипотез. От всего этого кружилась голова, иногда подгибались ноги и слегка дрожали руки, но это было высшим мерилом счастья, которое он получал в университете.
Когда между парами занятий выдавалось свободное окно, Иосиф бродил по запутанным коридорам высотного здания университета. В этом хаотичном перемещении по практически необозримой топологии главного корпуса, он находил какой-то, никому непонятный, блаженный восторг. Да и, по правде говоря, было, чем восхищаться. Так называемая сталинская высотка на Воробьёвых горах была всего на год старше Иосифа. В те годы это было самое высокое здание в Европе. Ни птицы, ни люди ничего подобного в Москве никогда не видели. Иосиф не знал, что если бы он сумел обойти все многокилометровые коридоры этого здания, то увидел бы по его сторонам 50 тысяч помещений, которые достигали на 32 этаже высоту 180 метров. Многие профессора университета утверждали, что, возможно, благодаря этому уникальному зданию, страна заняла лидирующие позиции в науке и в образовании.
Несколько меньший, а точнее, никакой восторг не вызывало у Иосифа общежитие. Когда он впервые переступил его казённый порог, уже при входе ему бросилось в глаза нечто похожее на афишу. Она совсем не являла собой анонс какого-то будущего мероприятия, скорее это была некая таблица запретов, в которой рефреном шла строка «не должен». Это был, по сути дела, нелепый припев к грустной песне, посреди которой были угрожающие слова: студент не должен являться в общежитие позднее 22.00, не должен появляться в нетрезвом виде, не должен курить в комнате и в коридоре, не должен приводить к себе в комнату девушек (парней) и т. д. и т. п.
В комнате с Иосифом жили ещё два парня. Один из них, Володя Великанов из древнего города Мурома, когда впервые вошёл в каптёрку (так он по армейскому сленгу назвал их жилое помещение), вместо приветствия приклеил на задней стороне двери свой анонс, который он назвал заповедями для проживающих. Эти предписания, заимствованные им, по его признанию, со стен общежития космонавтов, гласили следующее.
1. Биоритмы у всех разные. «Жаворонки» в 6 утра уже на ногах, «голуби» просыпаются в 8 часов, а «совы» могут спать до обеда. Поэтому старайтесь не шуметь ночью и рано утром.
2. Опасайся уродливости бытия. Встал с постели – прибери вокруг себя. Поел, попил – вымой посуду.
3. Постучи в дверь, в том числе и в свою, неизвестно, чем в данный момент занимается твой сосед.
4. Лучше заниматься образованием или наукой не в комнате, а в библиотеке.
5. Будь открытым и коммуникабельным.
6. Будь толерантным, ведь общежитие это весь мир в миниатюре.
7. Готовить – дешевле по деньгам и для здоровья. Это лучше, чем есть всякую дрянь в общепите.
Выполнение предписаний, вывешенных при входе, было для Иосифа совсем не обременительно, поскольку он в жизни не выкурил ни одной сигареты, вкус спиртных напитков был ему малоизвестен, а мысль заводить чужих девушек в комнату ему даже в голову не приходила. Зато заповедям Володи Великанова он пользовался неукоснительно. С ними, и в самом деле, жить было легче. К тому же, несмотря, что Володя из Мурома своим могучим телосложением был похож на богатыря Илью Муромца, он отличался невиданным добродушием и покладистым нравом. Третьим соседом оказался не очень разговорчивый, но очень серьёзный Толик Титаренко из украинского города Львов. Так сложилось, что именно эта троица получит красные дипломы с отличием по окончанию университета. Вполне возможно, что в немалой степени этому способствовало и выполнение ими всех заповедей совместного проживания. Но, разумеется, в намного большей степени это произошло потому, что Толик прикрепил к каждой их двух, свободных от окна и входной двери, стенок две красивые картонки. На одной из них было написано: «Ввиду краткости нашей жизни мы не можем позволить себе роскошь заниматься вопросами, не обещающими новых результатов», на другой: «Из ничего – ничего и проистекает». Обе цитаты принадлежали любимцу Анатолия, величайшему физику нашей эпохи Льву Ландау. Поскольку кумиром Иосифа был Альберт Эйнштейн, то Владимиру не оставалось ничего другого, как считать своими идолами и того, и другого. Вполне уместно предположить, что именно они и стимулировали эту троицу стать настоящими физиками и сформировали из них блестящих учёных в будущем.
Володя Великанов, кроме физики, очень любил футбол, причём не столько играть, сколько ходить на стадион. Вместе с тем, деньги на посещение стадиона, чтобы посмотреть игру любимой команды «Спартак», были далеко не всегда. Поэтому, ему часто приходилось слушать трансляцию матчей голосами, любимого футбольными фанатами, диктора Вадима Синявского. Придя как-то с футбольной биржи, Володя, решив повеселить друзей, рассказал им анекдот: возвращались как-то известный диктор радио Юрий Левитан и спортивный комментатор Вадим Синявский после работы домой и разговорились о том, что их относят к числу самых известных в стране людей.
– Давай проверим, – предложил Синявский.
Они зашли во двор, где ребята гоняли футбольный мяч. На вопрос:
– Ребята, угадайте, кто мы такие? – последовал однозначный ответ, – Жиды!
Вместо ожидаемого смеха, Толик за спиной Иосифа покрутил пальцем у виска, показывая другой рукой на соседа. Володя ещё не успел сообразить, что к чему, как Иосиф, резко повернувшись к нему, громогласно, чуть ли не по слогам, отчеканил:
– Тебе не кажется, не совсем уважаемый приятель, что за такие анекдоты морду бьют.
Пока абориген Мурома соображал, как его тщедушный сосед по каптёрке собирается хлестать его по физиономии, Иосиф, размахивая руками, прокричал:
– В таком случае, если тебя на лекции спросят, кто такие, Эйнштейн и Ландау, предлагаю тебе тоже раскатисто, чтоб все слышали, заявить:
– Жиды!
У Владимира на глазах выступили слёзы, он приблизился почти вплотную к Иосифу и чуть слышно промолвил:
– Прошу тебя, бей, бей, как можно сильнее! Заслужил! Только помни, сорвалось с языка. Не хотел обидеть ни тебя, ни тем более великих физиков, в которых, поверь, я души не чаю.
Вечером, несмотря на запрет, он притащил купленную на последние деньги четвертушку водки и водрузил её на стол вместе с несколькими солёными огурцами, чёрным хлебом и кусочками сала. Перехватив недоумённый взгляд сожителей, он не очень внятно пробормотал:
– Так получилось, что я нарушил толерантность, которая обозначена в заповедях, лично мною вывешенных на двери. Прошу меня простить, клянусь, что больше такое не повторится.