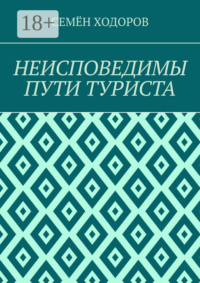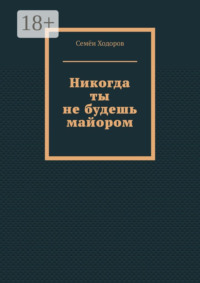Полная версия
Иосиф и Сталина
– Девочка, милая, ты кто? Как оказалась здесь совсем одна?
Ожившая после кипятка, Соня рассказала обо всех своих злоключениях. Станция была пуста и офицер в форме артиллерийского капитана не имел никакой возможности выяснить куда и каким поездом уехала мать девочки. Да и у него не было другого выхода, как сказать ей:
– Послушай, деточка! Всё будет хорошо! Найдётся твоя мамочка. А пока поедешь с нами. Мы тебя в обиду не дадим.
Уже через час Соня сидела в теплушке, которая катила по железнодорожным рельсам в направлении к фронту. Через несколько дней поезд остановился на какой-то большой станции и простоял там несколько часов. Капитан, который по сути дела спас Соне жизнь, продолжал опекать девочку. Он приказал ей не выходить из вагона, а сам выскочил из него и помчался к солидному зданию вокзала большого города. Вернулся он через час в сопровождении дородной женщины со сплетённой косой вокруг головы.
– Как тебя зовут, девочка? – тут же осведомилась она и, не давая ей ответить, тут же продолжила:
– Есть ли у тебя с собой какие-нибудь документы?
– Все документы остались у мамы, а зовут меня Соня, – всхлипнула она.
– А фамилию свою помнишь, Сонечка? – продолжала допрашивать её толстуха.
– Конечно, помню, – сквозь плач проскулила она и тут же осеклась.
В школьном журнале она именовалась как Софья Гринберг. Но сейчас вдруг вспомнила, что мама всегда говорила, что когда она будет получать паспорт, ей надо будет взять её фамилию – Уманская. Соня, возражая ей, всячески подчёркивала, что фамилия Гринберг ей нравится больше потому, что в переводе с немецкого она означает живописное словосочетание «зелёная гора». Однако, мама полушутя, но больше, наверное, полусерьёзно мотивировала, что с её фамилией – Уманская ей будет легче жить на этом свете. Только через несколько лет Соня поймёт эту мотивировку. А ещё через какое-то время, когда она вступит в брачный союз с Марком, она оставит за собой фамилию матери. Но сейчас, когда незнакомая женщина снова справилась:
– Ты что ли забыла свою фамилию или не знаешь, – Соня подняла свою кудрявую головку вверх и не без гордости произнесла:
– Моя фамилия – Уманская!
Она хотела было добавить, что её мама родилась в Умани и в честь этого города на Украине она и носит эту фамилию. Однако, женщина, которую привёл капитан, перебив Соню, схватила её за руку и поспешно проговорила:
– Значит так, Сонечка, мы очень постараемся разыскать твою маму. Поезд, в котором ты находишься, буквально через считанные минуты отправляется на фронт, и ты, конечно, не можешь тут оставаться.
– А куда вы меня поведёте, тётенька, – снова разрыдалась Соня, – я хочу к маме!
– А вот и никакая я ни тётя – скривилась она в деланной улыбке, – зовут меня Тамара Ивановна, я директор детского дома, в который мы сейчас и пойдём. Там ты временно и побудешь, пока не найдём твою маму.
Детский дом находился недалеко от вокзала. Уже через полчаса они переступили его порог. Из окна большой комнаты, где стояло более двух десятков кроватей, Соня увидела багровый краешек заходящего солнца, который небрежно зацепился за скалистый берег Волги в татарском городе Казани.
В сознании Сони крепко засело слово «временно», которая проговорила в вагоне Тамара Ивановна. Она ещё не знала, что нет ничего более постоянного, чем временное. Это слово с лёгкостью заменяется выражением «пока суд да дело». Но не было никакого суда и никакого дела: Соня пробыла в детдоме около пяти лет. Нельзя сказать, что её маму не искали. Однако в полной неразберихе начала войны трудно было что-то выяснить. В это время мать, которая тоже тщетно пыталась найти дочку, попала на фронт, где вышла замуж за однополчанина и сменила фамилию на фамилию мужа. Поэтому, после войны повзрослевшая Соня также не нашла свою маму. После окончания школы она покинула «нелёгкие университеты» детдома и поступила в медицинское училище, уйдя, тем самым, на самостоятельные хлеба. По распределению Соня попадает в одну из лучших больниц города, где и знакомится с молодым интерном Марком Перельманом, за которого и выходит замуж, так и оставшись, помня завет матери, на фамилии Уманская.
Кто же мог предположить, что этот самое наставление сыграет важную роль в событии, которое произойдёт через 15 лет с момента, когда Соня потеряла свою мать. Кто мог подумать, что мужу Любови Моисеевны Уманской присвоят звание полковника и переведут с повышением по службе в город Казань. Когда же Соня подхватит воспаление лёгких и ей понадобятся антибиотики, доктор Марк Перельман войдёт в ту самую казанскую аптеку, где фармацевтом работала её мать. Он протянул ей рецепт на лекарство, она поспешным взглядом прочитала название таблеток и отошла к аптечному комоду, чтобы извлечь их из ящика. Однако, что-то привлекло её внимание в поданном рецепте. Она снова, уже более внимательно, всмотрелась во врачебное предписание. Глаза острой вспышкой резанули именные данные больного. Там было чётко выписано, что лекарство предназначено Уманской Софье Самуиловне. У Любови Моисеевны подкосились ноги и она стала оседать на холодный кафельный пол. Марку пришлось перепрыгнуть через прилавок, отделяющий фармацевта от покупателей, и всеми доступными ему врачебными методами приводить немолодого, но привлекательного провизора в чувство. Когда Любовь Моисеевна открыла глаза, из её уст прорвался шёпот:
– Кажется, я нашла свою дочку.
Ничего не понимающий, Марк счёл прерывистую абракадабру фармацевта за полубредовый абсурд и посчитал нужным спросить, где хранятся успокаивающие таблетки. Однако Любовь Моисеевна неожиданно, достаточно прытко, приподнялась с пола, залпом осушила стакан воды и надрывно попросила:
– Предъявите, пожалуйста, документ женщины, для которой выписан рецепт.
Ошеломлённый Марк тут же достал Сонин паспорт и протянул его фармацевту. Она долго всматривалась в фотографию, окропляя её горючими слезами, приговаривая сама себе:
– Да, нет сомнения, это моя девочка, моя Сонечка, моя любимая доченька!
Сквозь непрекращающиеся всхлипы, Любовь Моисеевна спросила Марка:
– А вы кем приходитесь моей Сонечке? Неужели она жива?
Потрясённый Марк, ещё не понимая, что происходит, невнятно пробормотал:
– Мне бы и в голову не пришло покупать лекарства для тех, кто уже находится на небесах. Это я вам говорю, как законный муж Сонечки Уманской.
Любовь Моисеевна бросилась на шею Марку со словами:
– Боже мой праведный, у моей дочки есть муж, а у меня зять.
– А ещё трое внуков, два мальчика и девочка, – машинально добавил всё ещё растерянный Марк.
– Что же это делается на белом свете? – снова всплакнула она, – так я не только снова стала мамой, не только тёщей симпатичного мужчины, а ещё и бабушкой.
Любовь Моисеевна, проглатывая слёзы, рассказала Марку как она потеряла Сонечку в первые месяцы войны. Поведанное ею в точности совпадало с тем, о чём часто вспоминала Соня. Сомнений не было, перед ним стояла мать его любимой жены.
– Так что же мы медлим, – воскликнул взбудораженный Марк, – немедленно бежим к вашей дочери!
Уже через полчаса Марк открывал дверь своей квартиры. Прямо к ней под ноги на трёхколёсном велосипедике въехала трёхлетняя Сталинка. Она вопросительно посмотрела на Любовь Моисеевну и по слогам отчеканила:
– Тётя, к маме нельзя, она больная.
Мать Сони стремительно сняла её с велосипеда и, подняв на руки, плаксиво прошептала:
– Ну, здравствуй внученька, не знала, что сегодня у меня выдастся самый лучший день моей жизни.
В это время из спальни послышался слабый голосок Сони:
– Марик, это кто там Сталину называет внученькой?
Марк хотел было что-то произнести, но Любовь Моисеевна буквально бросила внучку к нему на руки и вбежала в комнату, где лежала приболевшая Соня. Она, как вкопанная, остановилась у кровати дочери, которая широко открытыми глазами пристально всматривалась в её заплаканное лицо. Бледное лицо Сони неожиданно покрылось багровыми пятнами и запылало огненным жаром, исходящим, как ей казалось, от самого сердца. Она встрепенулась и раскатисто прохрипела:
– Марик! Мне плохо, мне кажется я схожу с ума, похоже у меня галлюцинации. Мне снится, что моя мама вернулась.
Любовь Моисеевна подбежала к дочери и, крепко прижав её к себе, запричитала:
– Это не бред, доченька. Грех говорить, но очень хорошо, что ты приболела, иначе я бы не нашла тебя. Я тебя быстро вылечу, и мы уже никогда не потеряем друг друга.
Когда Марк рассказывал о случившемся своим друзьям на работе, он непременно подчёркивал, что феномен встречи матери и дочки породил чудо излечения его жены без лекарств. Приобретённые антибиотики просто не понадобились и были выброшены за ненадобностью. Когда же через несколько дней по этому поводу была откупорена бутылка шампанского, муж Любови Моисеевны, полковник Розенбаум, наливая в маленькую рюмку принесённый с собой спирт, хорошо поставленным офицерским голосом произнёс:
– Я хочу, что мы выпили за уважаемого доктора Марка Перельмана ибо он, сам того не сознавая, из четырёх, находящихся в радиусе сто метров, аптек выбрал именно ту, где работает моя жена.
– Мало того, – добавила новоявленная тёща Марка, – мой зять из трёх фармацевтов, в пустующей в это время аптеке, предъявил рецепт с именем моей дочери именно мне, а никому-то другому.
Полковник Розенбаум по фронтовой привычке вскинул руку, чтобы влить в себя, уже, правда, не наркомовскую, дозу спирта, но Марк остановил его, проникновенно произнеся:
– Пить, мои дорогие, следует не за мою скромную персону, а за мою жену и тёщу, которые, не имеет значения как, нашли друг друга.
Обрадованный полковник хотел было повторить свой предпитейный жест, однако его снова перебили, на этот раз Соня. Она обняла Любовь Моисеевну со словами:
– Мамочка, дорогая! Мы теперь навсегда вместе. За тебя, любимая!
Дослушав искренние речи своих родственников, полковник Розенбаум облегчённо вздохнул и влил в себя рюмку с вожделенной жидкостью.
Часть 2
Иосиф Маркович
Глава 4
Кругом одни чудеса
Иосиф Перельман не знал, что своим именем обязан бывшему советскому вождю Иосифу Сталину. Родители не то, чтобы хотели скрыть от него это. Причина была более банальной: им было стыдно признаться сыну, что он был назван в честь тирана, культ личности которого развенчал, ещё в 1956 году, тогдашний секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв.
Парадоксально, что всё связанное с именными метаморфозами Иосифа Джугашвили (подлинная фамилия Сталина) преследовало Иосифа Перельмана в его ученическое бытие. Всем известно, что в школьной жизни редко кто не удостаивается клички. Они бывали смешные, обидные или просто никакие. Вот таким никаким прозвищем и обозвали Иосифа, наградив его обидным именем «гуталин». А всё из-за того, что он, в отличие от своих одноклассников, регулярно чистил свою обувь одноименным кремом и, к тому же, почему-то вместо слово «хорошо», употреблял немецкое «гут», созвучное современному «Окей». Однако немногие знали, что такой же кличкой, может быть потому, что был сыном сапожника, был награждён и Иосиф Виссарионович Сталин. Не знал это и Иосиф Перельман. Никто не говорил ему, что была даже воровская песня с крамольным текстом: «В кремлёвском зале музыка играет, благоухает ландыш и жасмин, а за столом Россию пропивает пахан Советов, Иоська Гуталин». Это сегодня известно, что, не будучи наделённый алкогольными пристрастиями, великий вождь, за которого шли на смерть бойцы Красной армии, Россию не пропивал, а планомерно и жестоко уничтожал. Всё это в никоей мере не касалось личности Иосифа Перельмана. Понятно, что он не употреблял спиртных напитков и никого и никогда не расстреливал. Более того, несмотря на иллюзорную общность с именем Сталина, он ненавидел его всеми фибрами своей легко ранимой души. Ведь, если даже ни от руки пресловутого вождя, то уж точно по его воле были расстреляны двое его дедушек.
Между тем, кадры школьной жизни Иосифа мелькали малозначимыми эпизодами, которые были наполнены рутинными уроками. В дополнение к ним, была ещё и вялотекущая пионерская атрибутика, плавно переходящая в шаблонный формат комсомольского бытия. Ни первое, ни второе, несмотря на парадно раздутую символику, ни в коей степени не привлекало Иосифа. Он никогда не причислялся к тем, кого сегодня называют «ботаниками», т.е. к скучным, занудливым и заученным школьникам. Но в тоже время всегда чётко знал, чем ему надлежит заниматься в будущей жизни. Когда 8 «б» класс, в котором он учился, писал сочинение на свободную тему, которую «русичка» расплывчато сформулировала не иначе, как «Моя профессия после окончания школы», он был единственный вразумительно и доказательно обосновавший целесообразность выбора своей специальности. Просто никто из писавших это сочинение, как и подавляющее большинство их сверстников, не задумывались или не хотели думать о том, что их ждёт. Ведь проектирование будущей профессии, прежде всего, предполагает постоянную будничную работу в выбранном направлении уже сегодня. Именно этого и не хватало отрокам, которые не относили себя к тем, кого завтра назовут «ботаниками».
Учительница русской литературы Фаина Борисовна, которую, вопреки её еврейской национальности, называли «русичкой», была поражена эпиграфом, выбранным Иосифом к своему сочинению. Он гласил: «Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к вещам». Далее на трёх страницах чернильного текста раскрывалось, что этой целью у Иосифа являлась профессия физика. На замечание Фаины Борисовны, что этот эпиграф является не просто вопиющей бессмыслицей, а просто какой-то немыслимой абракадаброй, Иосиф невозмутимо ответил:
– К сожалению, я не знаю, что такое абракадабра, такого слова мы с вами в русском языке просто не учили.
– Это слово, любезный, – отрубила преподавательница русской словесности, – означает не что иное, как абсурд.
– Не думаю, – смущённо промолвил Иосиф, – что слова гениального физика Альберта Эйнштейна являются какой-то нелепостью.
Пока ошеломлённая Фаина Борисовна торопливо протирала очки и медленно оседала на свой стул, расстроенный Иосиф добавил:
– Прошу прощения, что я по своей рассеянности забыл приписать фамилию основателя современной теоретической физики к своему эпиграфу.
– Ничего страшного, Иосиф, – виновато пробубнила учительница, – хочу только сказать, что за своё сочинение ты получил две оценки: по русскому языку – твёрдая двойка, а вот по русской литературе – железная пятёрка.
Она сконфуженно посмотрела на него и, уже обращаясь ко всему классу, поощряюще вставила:
– Несмотря на массу ошибок в тексте сочинения, Перельман является единственным, кому удалось убедительно доказать, почему он решил выбрать специальность физика.
Снова снисходительно взглянув на Иосифа, Фаина Борисовна продолжила:
– Если ты сумеешь исправить свои грамматические ошибки, я пошлю твоё сочинение на городскую олимпиаду по русской литературе.
– Исправить ошибки я сумею, – уткнувшись в учебник физики промямлил Иосиф, – а в вашей олимпиаде участвовать не буду.
– Это ещё почему, – возмутилась Фаина Борисовна, – это же честь не только для тебя, а и для всей школы.
– Да потому, – огрызнулся Иосиф, – что я не фанат русской литературы, а репутацию школы я постараюсь не осрамить на всесоюзной олимпиаде по физике, куда меня направили как одного из победителей республиканского состязания.
Иосиф не лгал, он и на самом деле насколько терпеть не мог гуманитарные науки, настолько обожал точные. В то время, как кумирами его сверстников были космонавт Юрий Гагарин, вратарь сборной по футболу Лев Яшин, ливерпульский ансамбль «Битлз"и незабываемые фильмы «Бриллиантовая рука» и «Кавказская пленница», его идолами были физики Альберт Эйнштейн, Лев Ландау, Исаак Ньютон и Галилео Галилей. Он сам не понимал, как смогло случиться, что не математика, не химия, а именно физическая наука заняла почти всё жизненное пространство, в котором он находился. Может быть, поэтому он и появился в стенах Московского физико-технического института (МФТИ), где проходила Всесоюзная олимпиада по физике. Может быть, поэтому он и оказался там представителем Татарской автономной республики, предварительно став победителем районных, городских и республиканских олимпиад.
Вся семья в полном составе провожала Иосифа в столицу. Мама Соня и сестричка Сталина пустили даже, далеко не скупые, женские слёзы. Да и было от чего. Это не были слёзы радости, это была печаль расставания. Ведь Иосиф впервые покидал родные пенаты. Все волновались: как ему, 15-летнему юноше, будет там в многоликой и, может быть, не совсем безопасной советской столице, где ему надлежало провести три дня совсем одному.
Иосифа больше волновали не превратности московской круговерти, а модели задач на олимпиаде. Поэтому, большую часть полусуточного путешествия в плацкартном вагоне он не отрывал глаз от книги академика Ландау «Задачи теоретической физики». И это, несмотря на безудержное пение полупьяных солдат, едущих на «дембель» и на нескончаемый плач маленьких детишек, не желающих засыпать под стук вагонных колёс. Когда же он распластался на неудобной боковой верхней полке, в непродолжительном коротком сне ему грезились траектории «квантовых фотомагнитных осцилляций», открытых академиком Кикоиным.
Иосиф ещё не знал, что именно он, Исаак Константинович Кикоин, будет председателем оргкомитета олимпиады и именно он будет пожимать ему руку как одному из победителей этого необычного соревнования талантливых школьников. Казанского любителя физики в немалой степени смутило, что когда делали перекличку участников олимпиады, то большинство фамилий имели, не очень-то и форматные в стране Советов, окончания «ман», «штейн» и «берг». Ещё больше огорошило Иосифа, что в институтских коридорах под многими фотографиями ведущих профессоров были написаны фамилии с подобными концовками.
Увиденное Иосифом историк Максим Гаммал называл интересным и ярким феноменом массового участия евреев в науке. С одной стороны, «это восьмое чудо света» служило ксенофобским высказыванием, что мол именно евреи – самые мудрые и светлоголовые на свете. С другой стороны, по словам того же историка, это говорило о том, что якобы весь современный мир сконструирован евреями и именно это являлось источником антисемитской пропаганды. С, так сказать, третьей стороны, Иосиф не очень-то находился в теме, в которой красной нитью проходила мысль, что сегодня лиц еврейской национальности не спешат принимать в престижные институты страны. Современная советская власть без особых усилий сумела повернуть колесо, при котором его дедушки свободно поступали в любые университеты, в обратном направлении. Однако отголоски отмеченного, которые в той или иной степени обсуждались в семье, доходили и до его ушей. В то же время Иосиф, безудержно увлечённый физикой и математикой, не взял на себя труд заглянуть в Конституцию СССР. Если бы он пролистал 21-ую её главу, то наверняка обратил бы внимание, что там декларировалось равноправие граждан вне зависимости от расовой и национальной принадлежности. Вместе с тем, подрастающий отрок догадывался, что по отношению к советским иудеям процветала политика государственного антисемитизма. Иосиф не знал, что это называется столь высоким слогом, но чувствовал, что в верхних этажах власти к евреям относятся не совсем так, как записано в Конституции. Лишний раз это подтвердил, татарин по национальности, директор школы, когда перед отъездом в Москву мягко, почти по отечески, сказал ему:
– Послушай, Иосиф, тебе через полгода получать паспорт. Советую сменить фамилию Перельман на фамилию матери. Мне кажется, что Иосиф Уманский будет звучать красивее. Да и жить тебе станет намного легче.
Будущий физик догадался, конечно, о скрытом смысле, предлагаемой директором, аранжировки. Ничего не ответив на это, в тот момент он подумал про себя:
– Поменять фамилию означает предать отца, деда, которых я очень люблю и уважаю. Ни при каких обстоятельствах не буду делать этого.
Вряд ли подвергался сомнению тот факт, что с фамилией Перельман в Советском Союзе невозможно было стать не только министром, секретарём обкома партии и председателем горсовета, а и просто директором небольшого завода или научным сотрудником какой-нибудь лаборатории закрытого научно-исследовательского института. Однако, несмотря на эту реальность, через полгода после олимпиады Иосиф, в числе ещё четырёх человек из республики, был приглашён в Москву в физико-математическую школу-интернат, возглавляемую академиком Колмогоровым. Это было неординарное учебное заведение, где не могли помочь ни протекция, ни связи, ни взятки в виде денег или других услуг и ни изворотливость обойти что-либо обозначенное. Во главу угла ставились эрудиция, исключительные способности к точным наукам, нестандартное логическое мышление, склонность к анализу и тяготение к научно-исследовательской работе. Получалось, что Иосиф Перельман соответствовал всем перечисленным качествам.
Детище академика Колмогорова, физико-математическая школа-интернат, было задумана им как творческая школа. Главным здесь считалась стремление привить питомцам навыки самостоятельного научного мышления. В процессе обучения они вооружались всем необходимым для творческого восприятия как будущего университетского курса, так и для быстрого вхождения в самостоятельную научную работу. У обывателя словосочетание «школа-интернат» ассоциировалось как учебное заведение, в котором надлежит питаться и ночевать. По форме оно так и было, а вот содержание было необычным.
Иосифу импонировало, что уроки, в зависимости от модели их проведения, назывались лекциями, лабораторными занятиями или семинарами. Он был в восторге и от того, что занятия проводили доценты, профессора и даже академики, которые не просто снабжали их бездной необходимых знаний, а и учили, как ими распоряжаться на практике. Несмотря на то, что последнюю они по-философски называли критерием истины, упор обучения делался на теоретические аспекты математики и физики. Один из профессоров постоянно твердил им, что учёный может быть и лаборантом, а вот у лаборанта стать учёным-теоретиком нет никаких шансов.
Иосифа радовало, что преподаватели, в отличие от школьных учителей, не опускались до троекратного разжёвывания простых вещей, в то же время доступно и логично объясняя сложные атрибуты физической науки. Здесь учеников не вызывали к доске, не требовали дневников, не ругали за плохое поведение. Как по большому, так и по малому счёту в этом не было никакой необходимости. Ни у кого не возникало ни малейшей потребности шалить, баловаться, не слушать преподавателя и пропускать уроки. Да и, честно говоря, дурачеством, даже при желании, заниматься было некогда. Учебный день правильнее было назвать словом рабочий. Причём, он по интенсивности не делился на две части (школа и общежитие), а являлся плавным вливанием одной из них в другую. Требования к познанию обучаемого были не просто строгими, а, можно сказать, запредельными. Но именно это и превращало учеников в будущих светил отечественной физики.
Ещё очень нравилось Иосифу, что здесь их не делили на троечников, ударников и отличников. Он понимал, что в этом не было надобности, поскольку все они, примерно на одном качественном уровне, были обогащены текущими знаниями и одинаково страстно стремились к накоплению последующих. Ему было более, чем комфортно быть равным среди равных, имеющих глубинные задатки к накоплению сложных понятий теоретического познания. Иосиф не знал, что академик Колмогоров ставил этот факт одним из необходимых условий образования своей школы. В одном из своих писем домой на вопрос родных, как проходит процесс обучения в интернате, он чтобы «не растекаться мыслью по древу», в ответ привёл стихотворный опус, написанный одним из его одноклассников: «Задают нам очень мало, Что и говорить! Ну, подумаешь, английский, Взять и повторить. Ну, подумаешь, анализ, Надо подучить, Сделать семь задач каких-то, Быстро объяснить. Разобрать конспекты лекций, Выучить и знать, И матпрактикум сложнейший Выполнить и сдать. И по алгебре задачи – Просто чудеса! У меня на них уходит Только три часа. Приготовиться к контрольной, Физику решить, Сдать Зачёт, литературу Малость повторить. Разобрать, закончить, сверить, Прочитать, учить, Написать, перепроверить, Переповторить! Доказать, списать, запомнить, Съесть, перевести, Физикой себя заполнить, И с ума сойти!».
Этот нехитрый, не очень-то и совершенный с точки зрения высокой поэзии, опус вполне совершенно описывает напряжённый рабочий день обитателя московского физмат интерната. В более простой расшифровке он гласил, что учиться было до невозможности тяжело. Тем не менее, эти невозможности открывали Иосифу абсолютно новые возможности познавания мира как в его абстрактно физико-математическом понимании, так и в житейском восприятии. Он помнил одно из высказываний своего кумира Альберта Эйнштейна, что «есть только два способа прожить жизнь, первый – будто чудес не существует, второй – будто кругом одни чудеса». Понятно, что Иосиф выбрал для себя второй. Он не искал для себя диковинок и невидалей: они сами его находили в лабиринте запутанных математических формул и в, постоянно изменяющемся, калейдоскопе сложных физических метаморфоз. Иногда, когда усталость от всего этого буквально валила его с ног, он, тем не менее, продолжал работать, включая то, что современные далай-ламы называют подсознанием. Это, и в самом деле, была чудотворная медитация мозговых извилин, флюиды которых, несмотря на неимоверную усталость, проникали в суть физических явлений.