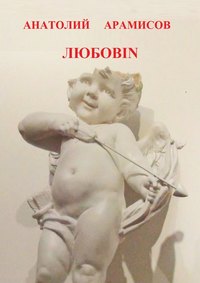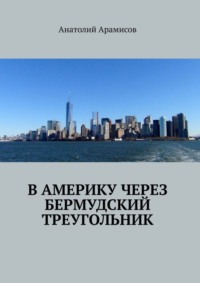Полная версия
Короли умирают последними
Великовозрастный шалопай резко повернулся в сторону еврейки. Его лицо пошло красными пятнами, глаза потемнели и засверкали раздраженными угольками.
– Ты не можешь понимать мужской философии! Настоящей философии, я имею в виду!
– Какой настоящей? – улыбнулась Сара. – Неужели Кант для тебя не авторитет?
– Конечно, нет! – презрительно процедил Курт.
– А кто же теперь твой кумир?
– Да хотя бы Ницше! Но настоящий гений философии, и не только – наш фюрер!
– Вот как? – соседка иронично улыбнулась. – Адольф Гитлер, насколько я знаю, ничего близкого к философским трактатам Канта не написал.
– Это с твоей женской точки зрения не написал! И с вашей… еврейской… Вам бы только своих пустобрехов читать – Маркса, Каутского, Люксембург!
Щеки Сары вспыхнули.
Внезапно раздался грохот. Это побагровевший Герхард Вебер со всего маху врезал шахтерским кулаком по деревянному столу.
– Хватит, Курт! Перестань!! Твоей политикой я сыт по горло! И делением людей на расы тоже!! Как ты можешь такое говорить этой милой девочке! Она выросла у нас на глазах вместе с тобой! Сара была умницей в детстве, и ею же осталась. А ты очень сильно изменился, и не в лучшую сторону, сынок!
Курт побледнел от злости.
– Ну, тогда запишите её себе в дочки, мой добрый фатер! Породнитесь с жидами, вот будет счастливая семейка! Золотишком вместе будете торговать в магазинчике Штейнов! Или в ростовщики подадитесь! Сосать кровь у нашего народа, у истинных немцев!
– Идиот! – закричал Герхард. – Пошел с глаз моих, наци безмозглый!
– И пойду! А вы оставайтесь ужинать с ней, только подавай, маман, кошерное на стол!
С этими словами Курт рванулся к двери, будто специально задев плечом девушку; та вздрогнула, как от удара током, отшатнулась. Младший Вебер сорвал с вешалки пиджак, закинул его на плечо и через секунду с грохотом затворил за собой входную дверь.
Отец горестно обхватил крупными пальцами седеющую голову и уставился в стол. Эмма подошла к ошеломленной соседке, ласково обняла её за плечи.
– Прости его, Сара. Он в последнее время как будто сошел с ума. Бредит идеями полоумного австрийца. Я знаю, что он тебе давно нравится… и ты такая замечательная. Я о лучшей невестке и не могу мечтать, но сейчас… сейчас Курт невменяем. Надо пережить это время, он образумиться, я очень надеюсь!
В глазах девушки мелькнули слезы. Она сделала шаг назад и тихо сказала:
– Вряд ли… Я хотела перед расставанием увидеть его, поговорить по душам, как когда-то. Теперь мы, наверное, долго не встретимся.
Она ошиблась.
Курт Вебер после стычки с отцом заявился в военный комиссариат и подал заявление о вступлении добровольцем в германскую армию. Ему шел уже двадцатый год, он был высок, строен, физически силен. В школе Курт увлекался гимнастикой, накачивал бицепсы, хорошо бегал и прыгал. Как раз начиналась всемирная Олимпиада в Берлине, и молодого Вебера вместе с другими новобранцами направили в помощь организаторам соревнований. Солдат разместили в казарме недалеко от главного стадиона, их задачей было отлавливание всяческого сброда, который мог приблизиться к богатым туристам из других стран – попрошаек цыган, проституток, карманных воров.
Курт Вебер преуспел в этих делах, выказывая недюжинное служебное рвение. Он почти до полусмерти избил двух подростков-цыганят, увидев, как те ловко облапошили тучного болельщика-американца, за что получил перед строем устную благодарность от командира роты.
Спустя всего год Курт Вебер стал сначала ефрейтором (Gefreiter), потом старшим ефрейтором (Obergefreiter), хорошо овладел навыками обращения с оружием, приемами рукопашного боя, отпустил усики «а-ля фюрер». Сослуживцы его уважали и одновременно побаивались.
О Саре он старался не думать. Она была напоминанием тайны за семью печатями, которую теперь Курт тщательно хранил в своей душе. Его детское увлечение красивой девочкой незаметно переросло во влюбленность, которая так мучила по ночам растущий юношеский организм. Он чувствовал, что тоже сильно нравится девушке, с каждым месяцем эта уверенность крепла. Сара привлекала его своим острым умом, насмешливой, но не злой иронией, веселыми подшучиваниями; нередко в спорах на философские темы она поражала оппонента своими знаниями. Но с каждой новой встречей Курта всё меньше стали волновать проблемы мирового значения, он замечал за собой, что во время таких бесед слова девушки растворяются в его сознании; их настойчиво и решительно перебивают мысли о том, какая мягкая, наверное, грудь у соседки, и как волнующе привлекательны ее точеные ножки…
Они поцеловались в первый раз, когда обоим исполнилось шестнадцать. Испуганно, взволнованно, торопливо. Молодые люди были одни, Герхард и Эмма Веберы уехали отдыхать на воды в Карлсбад. Сара, вся пунцовая от стыда, резким движением сбросила со своей груди руку юноши, и быстро выбежала из комнаты Курта. Она проскользнула по коридору второго этажа, мимо дверей квартиры родителей и пулей вылетела на Фридрихштрассе. Девушка долго ходила по вечернему Берлину, пытаясь успокоиться, взять себя в руки. Родители, строго соблюдавшие еврейские традиции, вряд ли одобрили её выбор.
Спустя месяц она снова не устояла перед пылающим страстью соседом. На этот раз поцелуи едва не закончились постелью, но девушке хватило благоразумия, чтобы остановиться в самый последний момент. Курт признался ей в любви, осыпал поцелуями лицо, руки, шею, коленки.
– Нет… это невозможно… нет… – шептала девушка, отстраняясь от рук Вебера. – Мои родители… они такие религиозные… и хотят, чтобы я была только с евреем… это предрассудки, но я могу только после свадьбы, Курт!
– Какая ерунда! Мы поженимся и будем счастливы! – бормотал Курт, пытаясь снять с неё юбку.
Он изнемогал от желания, мужское достоинство, казалось, сейчас разорвет его модные брюки, тело пронизывала какая-то сладкая, неведомая истома; в эти секунды он готов был бросить весь мир к ногам Сары, чтобы только насладиться её плотью.
Однако девушка выдержала испытание.
Курт, подавленный и мрачный, долго удовлетворял сам себя, рисуя в воображении вожделенные картинки соблазнения Сары. Через неделю, не выдержав, пошел на улицу красных фонарей, и там с проституткой, за деньги, что выкрал из отцовского письменного стола, стал мужчиной. После этого он примерно раз в месяц наведывался туда, утоляя желание плоти.
Но его душа принадлежала милой соседской еврейке еще целых два года. Все изменилось в 1935-м, когда Курт прочел «Майн Кампф» Адольфа Гитлера. Впечатления от книги были подобны гигантскому взрыву внутри его сущности, его души. Он вновь и вновь возвращался к описанию юности нового фюрера, и, к своему удовольствию и восхищению, находил между ним и собою много общего.
С этого времени Курт начал бредить национал-социалистическими идеями. Любовь к Саре стремительно скатилась в тёмную пропасть. Он стал тщательно избегать встреч с девушкой, кривясь от мысли, что товарищи по партии и просто сверстники увидят его вместе с этой еврейкой. Курт едва сдерживал бешенство, когда папаша Штейн, выглядывая из окна своей квартиры над ювелирной лавкой, звал юношу:
– Вебер! Дорогой Курт! Почему так давно не заглядываете вечером на огонек? Сыграли бы партию в шахматы, как в старые добрые времена, под кружечку баварского пива. Поговорили бы о Бисмарке и Фридрихе Великом. А? Вы же такой умный молодой человек, просто удивительно! Ваш отец Герхард таки слабо играет в сравнении с вами, юноша. Приходите! Иль вы обиделись на нас?
Курт молча проходил мимо говорливого соседа, скрипя зубами от злости.
«Ну, погоди, жид, настанет время, мы до тебя доберемся, погоди…»
И оно пришло. Это время.
В знаменитую «хрустальную ночь» 8 ноября 1938 года Курт вместе с несколькими десятками таких же, как он, боевиков партии, бил витрины магазинов, заранее помеченные шестиконечными звездами. Разгорячённые наци врывались внутрь, громили помещение, и одновременно лихорадочно хватали всё, что имело какую-то ценность. Его роте было приказано «зачистить» улицы как раз в родном районе.
Курт вначале колебался, зная, что некогда любимая Сара приехала к родителям на каникулы. Что-то похожее на чувство, преданное анафеме идеологами национал-социализма, всё еще гнездилось в его душе, как будто остатки прежней любви к миниатюрной еврейке зацепили, сохранили и спрятали в самых потаенных уголках кусочки незримой материи под названием Совесть.
Перед глазами Вебера неумолимо вставали красивые губы, карие глаза Сары, он будто слышал её заливистый смех и остроумные шутки. Штурмовик фюрера стоял перед перекрестком, с которого начиналась его родная Фридрихштрассе, и молча смотрел, как сослуживцы грабят какую-то продуктовую лавку.
– О! Французские вина! – радостно заорал друг Вебера, Карл Мюллер, из соседнего взвода, взгромоздясь сапогами на стол перед полками магазина. Он быстро откупорил увесистую бутыль, запрокинул голову, и с минуту жадно глотал красную жидкость.
– На, лови, это «Бордо» десятилетней выдержки! Очень вкусное! Смерть жидам! Они теперь поплатятся за убийство нашего барона! Хайль Гитлер! – крикнул он Курту и швырнул бутылку из окна.
Поводом для массовых беспорядков в Германии послужил смертельный выстрел еврейского студента Гершеля Гриншпана в секретаря немецкого посольства Эрнста фон Рата. 7 ноября 1938 года в Париже.
Вино быстро разгорячило и без того возбуждённого Вебера. Он вспомнил самодовольное, лоснящееся лицо папаши Штейна, его мелкие подколки, шуточки-прибауточки, которые тот часто отпускал во время их шахматных поединков (а старший Штейн обыгрывал обоих Веберов гораздо чаще, нежели они его), и тягучая, черная масса внезапно вспыхнувшей ненависти резко ударила Курту в виски.
– Зиг хайль! – проорал в ответ ефрейтор. – Ребята! Я знаю недалеко одну еврейскую лавку с золотишком! Давно пора бы взять нам то, что они высосали из нашего народа! Взвод – за мной! Бегом марш!
Топот трех десятков пар сапог сотряс мостовую Фридрихштрассе. Во многих окнах горел свет, люди не спали, с тревогой прислушиваясь к беспорядкам в соседних кварталах.
«Ближе… ближе… ближе… так, закрыли окна ставнями… ага! Почуяли близкую расплату, ерунда, не помогут вам ставни!»
– Взвод, стой! – скомандовал Курт и боевики, тяжело дыша, остановились перед ювелирной лавкой. Кто-то выкрикнул:
– Где звезда Давида? Я её не вижу! Быть может, это не магазин еврея?
– Я точно знаю, что здесь хозяйство ювелира Штейна! Ломайте!
Дом всполошился после первого же удара тяжелым ломом о железные ставни. Изнутри послышался женский плач-причитание. Курт внимательно наблюдал за знакомыми окнами на втором этаже. Папаша Штейн на миг показал свою физиономию, отпрянул назад, и спустя минуту вылетел из подъезда.
– Господа! Господа! Что же вы делаете!? – жалобно зачастил он. – Я честный, бедный еврей, всё нажил своим трудом! Господа, перестаньте! Прекратите, я прошу вас, пожалуйста, умоляю!
Внезапно он осекся, узнав в свете ночного фонаря Курта Вебера. И без того выпуклые глаза старшего Штейна увеличились в размерах. В этот момент Карл Мюллер преодолел сопротивление ставень и, радостно взвизгнув, сокрушил ломом стекла магазина.
– Курт! Это вы?? – с надеждой в голосе вскрикнул старый ювелир. – Помогите, ради всего святого! Вы же так дружили с нашей дочерью! Сара! Сара! Спустись вниз! Прекратите, я вас умоляю!
По щекам пожилого еврея катились крупные слезы. Он подскочил к Курту, схватил его за рукав мундира и заискивающе заглянул в холодные глаза бывшего соседа. Тяжело, медленно обмяк, сполз на тротуар.
Вебер скривился, словно от зубной боли, и резко вырвал рукав из толстых потных пальцев Исайя Штейна. Он почувствовал, как на крик еврея обернулись его сослуживцы.
«Не хватало еще, чтобы этот жид сейчас стал распространяться о моей… Шайзе!* Вот и она…»
Сара, онемев, стояла на ступеньках подъезда, молча смотрела в глаза своему бывшему ухажеру.
Её разум отказывался верить тому, что она видела в эту минуту. Все происходило будто бы во сне. Нереальном сне. Страшном. Который вот вот должен кончиться, вмиг исчезнут эти озверевшие лица, разбитые стекла снова склеятся самым волшебным образом, ставни магазина закроются на замок, отец встанет с колен перед когда-то милым юношей, который однажды признавался ей в любви и страстно целовал её тело… Но секунды, казавшиеся вечностью, отбивали молотом в её висках свой зловещий, неумолимый ход, а страшный сон не рассеивался, не проходил.
Сара смотрела в глаза, вроде бы знакомые, но теперь совершенно чужие, другие, холодные и безжалостные.
– Пошла прочь, сучка… – почти неслышно прошептал Курт, но она поняла каждое его слово по артикуляции губ и, закрыв лицо руками, бессильно опустилась на холодные ступени. Её едва не сшиб грузный человек, в одном исподнем вылетевший из подъезда.
– А ну стойте, мрази!! – знакомый голос сотряс улицу. – Это говорю вам я, Герхард Вебер! Отец вот этого подлеца! Стойте!
Карл Мюллер, уже запустивший свои лапы внутрь разбитой витрины и лихорадочно сгребавший в карманы женские украшения, выставленные там, испуганно обернулся.
– Это на самом деле твой фатер? – выкрикнули сразу трое товарищей Курта.
Тот, побледнев, молчал.
Герхард Вебер в два прыжка подскочил к сыну и занес над ним свой огромный кулак. Курт не зря занимался спортом; он сумел увернуться от страшного удара бывшего шахтера, и тот тяжело упал на отполированную булыжную мостовую. Кровь из ободранных рук и коленей стремительно проступила сквозь светлую ткань ночной пижамы Герхарда. На него тут же навалились трое боевиков, скрутили руки за спину, связали.
Курт брезгливо посмотрел на отца.
– Арестовать его! За сопротивление власти! – хрипло выкрикнул он. – И Штейна тоже! А потом, Мюллер, веди ребят к синагоге! Она недалеко! И сделайте так, чтобы никогда иудеи не молились там! Приказ ясен?
– Так точно, господин ефрейтор! Яснее не бывает! – на хмельном лице Карла Мюллера расплылась довольная ухмылка.
Спустя четверть часа два связанных мужских тела бросили, словно мешки с углем, в кузов грузового автомобиля со свастикой на борту. Но молодой Вебер этого уже не видел. Он быстро удалялся в сторону своей казармы. Перед глазами стояли женские лица, изуродованные страхом, с глазами полными слез. Сара, так и оставшаяся молча сидеть на ступеньках подъезда. Его мать Эмма, выбежавшая на улицу и умолявшая простить отца.
Курт прижимал левую руку к груди, где почему-то короткими вспышками пульсировала боль, встряхивал головой, чтобы прогнать наваждение, но оно не уходило, преследовало его, не отпускало.
Лишь в казарме, напившись до беспамятства, он забылся долгим черным сном, мучительно тяжелым, головокружительным, тошнотворным… Утром, проснувшись, он ощутил что-то, напоминающее угрызения совести.
«Неужели путь к величию арийской нации обязательно должен лежать через это? Наши противники безоружны и не сопротивляются. Какая-то пиррова победа… как тогда, в Чехословакии…»
Незадолго до ноябрьской ночи погромов, в сентябре 1938 года Курт с воодушевлением воспринял известие, что его часть отправляют «освобождать угнетаемое немецкое население» в Чехию. Он мечтал о воинских подвигах, рисовал в своем воображении сцены боев, где он, рискуя жизнью, первым врывается в опорный пункт противника, расстреливая врагов. Вебер проявлял огромное рвение во время учебно-тактических занятий, и особенно – боевой стрельбе. Лишь один командир роты штурмфюрер Отто Винцель мог состязаться с ним в меткости.
Вебер присутствовал в Берлинском дворце спорта во время исторической речи фюрера 26 сентября 1938 года. Курт много раз восторженно орал «Зиг хайль!!», а после слов Гитлера:
«Я предложил Бенешу (президенту Чехословакии) свои условия, и ему остается только выполнять их, тем более что он их уже принял. Мир или война – теперь это зависит только от него. Он должен принять наши условия, дать немцам свободу, или мы возьмем ее сами. Я буду первым в строю немецких солдат»… – впал в состояние эйфории.
Гордость переполняла душу молодого ефрейтора, когда их рота, громыхая металлическими набойками сапог по мостовым небольшого городка под названием Дюкс (Dux), четко печатала свою первую завоевательную поступь. Молодые девушки, немки, радостно приветствовали букетами цветов солдат и офицеров вермахта.
«Это! Только! Начало! Это! Только! Начало! Это! Только! Начало!» – синхронно с ударами каблуков звучало в голове Курта Вебера.
Чехи не оказывали сопротивления. Лишь по ночам в оккупированных городках кое-где звучали одиночные выстрелы. Патриотов-одиночек отлавливали, кого-то сразу убивали на месте, других посылали в особые места – первые лагеря, сооруженные на территории Германии.
Каждый раз Курт скрипел зубами и злился, что эти мелкие стычки происходят в стороне от него, что он не может показать все свои навыки и умения, проявить себя, как доблестный солдат рейха. Пока он отстает от молодого фюрера (тот принял боевое крещение в октябре 1914 года) —…» С горячей любовью в сердцах, с песнями на устах шел наш необстрелянный полк в первый бой, как на танец. Драгоценнейшая кровь лилась рекой, а зато все мы были тогда совершенно уверены, что мы отдаем нашу жизнь за дело свободы и независимости родины…» – Адольф Гитлер, «Main Kampf».
Молодой Вебер хотел убивать врагов рейха. 1 сентября 1939 года было не за горами…
* Шайзе – немецкое ругательство.
Концлагерь Эбензее, февраль 1945
В большом просторном сооружении с высокими потолками, где узникам Эбензее выдавался скудный паек, как всегда было тесно и шумно.
Двести пятьдесят грамм хлеба на день. То есть буханка хлеба на четверых. Пол-литра кофе, точнее, мутноватой жидкости, что-то вроде какао. Сморщенные капустные листья, отваренные в воде, иногда суп под названием «ватаг кара», где разваренная крупа была перемешана с кормовой брюквой. Обязательная порция табака в маленьких брикетах. Большим праздником считался день, когда из окна раздачи на весь барак выдвигали большой чан, в котором было картофельное месиво с маленькими кусочками мяса.
Немцы понимали, что иногда для особого тяжелых работ нужно подкрепить им организмы мужиков, иначе те просто физически не справятся с нагрузками.
Заключенный номер 9009 Иван Соколов неторопливо жевал тонкий кусочек хлеба, предварительно обмакнув его в кружку с кофейной бурдой. Рядом сидели его товарищи: Виктор Степовой с Краснодара, москвич Саша Маслов, Лёня Перельман, Дима Пельцер и Володя Соловьев, все с Украины. Они ждали двоих – Льва Каневича и Якова Штеймана. На стол, за которым сидели восемь человек, подавался большой чайник с кофейной жидкостью, две буханки хлеба и табак. Старший стола (а им был назначен Соколов) следил, чтобы эта скудная еда была разделена поровну. Иван доел хлеб и медленно тянул внутрь себя горячую кофейную бурду, что согревала кровь и хоть немного, но бодрила. Его пальцы левой руки небрежно играли с брикетиком табака, переворачивая гранями против часовой стрелки.
– Как всегда? – наклонился к нему Саша Маслов. – Сегодня моя очередь.
Соколов кивнул.
Москвич тяжело вздохнул и положил рядом с брикетиком половину порции своего хлеба. Три кусочка из шести. Маслов был заядлым курильщиком, в мирное время смолил две пачки в день, и здесь его организм испытывал изнурительное томление по табаку.
Иван Соколов и Яков Штейман были единственными некурящими из восьми, поэтому меняли свою порцию табака на хлеб. В среде узников это считалось честным обменом, и курильщики между собой устанавливали очередность, чтобы получить второй брикетик.
Завтрак заканчивался.
Внезапно шум в помещении столовой стих. Многие повернули голову к выходу.
– Идут! – негромко произнес Лёня Перельман. – Наконец-то, а то уж я думал – каюк им…
Между длинными рядами столов к ним быстро приближались трое: староста Мишка-цыган, Яков Штейман и Лев Каневич. На лице последнего играла задумчивая улыбка.
– Ну что? Рассказывайте! Что комендант сказал вам? Яков, не томи, говори!
Штейман сел на своё место, молча налил в кружку бурду, и, сделав маленький глоток, опустил её на стол. Первым заговорил Каневич, жадно жуя свою порцию хлеба.
– Я лично не поверил своим ушам! Думал, шутит оберштурмбанфюрер! Наверное, все же он того… с приветом. На фронте, видимо, контузило, вот и стал в тылу заниматься чудачеством.
– Да в чем дело-то!? Долго будете загадками кормить? – с некоторым раздражением произнес Соловьев.
– Комендант, этот… как его… Не… Но…
– Нойман, – подсказал Яков.
– Да, Нойман Франц, предложил нам поискать среди народа любителей шахмат, ну, кто более менее нормально играет. Составить список.
Каневич, наконец, прожевал свой кусок.
– Зачем?? – произнесли сразу несколько голосов.
– А хрен его знает. Сказал, что с уважением относится к таким людям, как он… – Лев кивнул на Якова Штеймана. – И даже готов сделать послабления шахматистам!
– Серьёзно? – прищурил глаза Иван Соколов. – Это что-то новое. Почти четыре года в трех лагерях кантуюсь, а о таком не слыхивал. По воскресеньям в Маутхаузене иногда давали нам поиграть мячом. Но там желающих бегать было немного, и так ноги еле волочили.
– Да, действительно, очень странно… – задумчиво произнес Дима Пельцер. – Если честно, не по душе мне всё это.
– Почему? – воскликнул Лёня Перельман. – А мне так этот Нойман с первого взгляда понравился! Сразу видно – интеллигент! Не то, что бывший лагерфюрер, тот майор.
– И что дальше? – перебил его Маслов. – Ну, найдете вы шахматистов… и что?
– Не знаю, – пожал плечами Штейман. – Я тоже ничего не понимаю.
– А вам, быдлу, и понимать незачем! – встрял в разговор Мишка-цыган. – Приказ не обсуждается, а выполняется без разговоров и в срок!
Он сидел за отдельным столом, вместе с капо других бараков, рядом с восьмеркой заключенных, и под голодными взглядами жрал двойной паек; предметом зависти узников Эбензее были кубики самого настоящего сливочного масла, что клались раздатчиками между широкими краюхами хлеба.
– Так это вам сам комендант сказал? – спросил Степовой, вычищая кусочком хлеба свою миску.
– Да, пришел гауптштурмфюрер Вебер на плац, приказал идти за ним, – ответил Штейман. – Подошли к администрации, вышел Нойман и объявил… Потом добавил, что кроме выходного дня, возможно, будем играть и в будни. Только зачем?
– А я б сыграл с удовольствием вместо того, чтобы в штольне пахать! – приподнялся над столом Перельман. – Записывай меня первого! В Одессе частенько в молодости в наш шахматный клуб захаживал.
– Сам записывайся! Комендант сказал, чтобы желающие подходили к писарю. К этому чеху, что сидит в комнатке рядом с больничным блоком… как его? Вацлав зовут, по-моему.
– А ты, Яков? Что скажешь?
– Не знаю… пожал плечами Штейман. – Не понимаю, зачем это нужно оберштурмбанфюреру?
– Так он же тебе на плацу говорил, что сам играл перед войной и уважает сильных шахматистов. Быть может, хочет посмотреть, как ты шпилишь* тут? Не растерял спортивной формы в сравнении с Баден-Баденом? – язвительно бросил Мишка-цыган, допивая кофе. – Тебе первому надо бежать к писарю, пока герр комендант не передумал! А так сдохнешь в штольне через неделю, другую. Или расстреляют перед строем за отказ выполнить его приказание!
Над столом повисло тревожное молчание. Мишка громко чавкал и причмокивал, заедая бутербродом с маслом жидкую кофейную массу, что он выливал в большой красный рот. Крошки хлеба застревали в его небольшой черной бороде, коричневые капли падали вниз; цыган опускал глаза, стряхивал всё в сторону, под стол. Черные глаза Мишки обладали удивительным свойством, они все время были в движении, бегали в разные стороны, как будто старались охватить весь горизонт одновременно; скорее всего – это было выработанной привычкой постоянно следить за узниками, поэтому цыган имел еще одну кличку – «Глазастый».
Наконец, староста барака доел свою порцию, поднялся из-за стола и скомандовал:
– Встать! На выход!
Грохот отодвигаемых скамеек. Топот деревянных башмаков по каменному полу. Узники, поеживаясь, медленно двинулись к широко распахнутой двери, навстречу морозному воздуху.
Внезапно раздался яростный крик:
– Ты что, сволочь? Заснул? А ну, вставай!
Все обернулись.
Лев Каневич по-прежнему сидел за столом, согнувшись в три погибели, прижав обе руки к животу. Над ним с побагровевшим лицом навис Мишка-цыган, спустя секунду правая рука капо, описав дугу, хрястнула дубинкой по деревянному столу рядом с головой номера 9001. Каневич вздрогнул, отшатнулся и скривился еще больше.
– Живот схватило… – пробормотал он. – Сейчас… сейчас…
– Ах ты, жидовская морда! Опять в лазарете хочешь отлежаться! Поднимайся, скотина! Убью!!