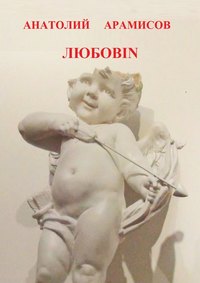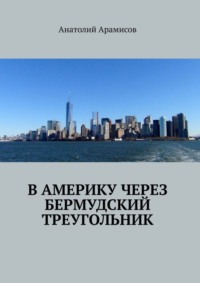Полная версия
Короли умирают последними

Короли умирают последними
Анатолий Арамисов
© Анатолий Арамисов, 2020
ISBN 978-5-0051-2763-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Анатолий Арамисов, автор романов «Французская защита», «Гости виртуального полнолуния», «Предвестники», сборников «Вояжеры», «Гроссмейстер», «Любовin». Данный роман написан на основе воспоминаний его деда, узника фашистских концлагерей.

Моему деду Соколову Григорию Александровичу, узнику концлагерей Маутхаузен, Заксенхаузен, Эбензее, его товарищам и всем жертвам нацизма посвящается…
ЧАСТЬ 1
Концлагерь Эбензее, февраль 1945
Черно-белая шахматная доска, стремительно увеличиваясь в размерах, сначала заслонила перед ним ненавистные горные пейзажи, потом изогнутый горизонт, и, наконец, облачное небо. Фигуры, висевшие на ней, причудливо меняли свой цвет. Черные превращались то в зеленые, то в оранжевые, то в темно-синие. Они самостоятельно прыгали-скакали по пространству доски, как будто вырвавшись из-под контроля игроков, сталкивались между собою, кружились волчком, падали, поднимались, и снова продолжали свои движения по замысловатым траекториям. Некоторые оставались неподвижно лежать, потом медленно испарялись, исчезали, и тогда пространства на этом поле битвы становилось больше.
Внезапно позиция приобрела знакомые очертания. Да, это была та самая решающая партия, очень важная, памятная, когда он мог одним легким движением кисти пожать плоды многолетней работы и стать, наконец, первым. Надо было только правильно пойти королем, не назад, а вперед! И тогда неожиданно нависшие над его обителью фигуры неприятеля не успевали перегруппироваться для решающего штурма, им мешала одна единственная слабая на вид пешечка, которая закрывала повелителя своим телом, как надежной броней.
И всё.
Он потянулся рукой к фигуре, чтобы, наконец, сделать этот верный ход, как вдруг его король внезапно рухнул вниз и стал методично биться о дерево доски острием короны, издавая отчетливый звон, словно её поверхность была не деревянная, а напоминала соединенные между собою пластинки металлофона. Звуки, что она издавала, были такие знакомые, однообразные, размеренные…
Он вздрогнул и проснулся.
Звон лагерного колокола вывел из сонного забытья тысячи людей. Они зашевелились, стали переворачиваться с боку на бок, протирать ладонями глаза и заспанные, изможденные лица. Раздались первые всхлипы, потом послышались приглушенные рыдания. Души возвращались в ужасную реальность, от которой они убегали лишь в короткие ночные часы. Очень редко им снились добрые, ласковые довоенные грезы, в которых они были счастливы, любимы, беззаботны. Именно после таких минут организм не выдерживал чудовищного контраста между сном и реальностью, реагируя совсем по-детски, беспомощно, словно взывая к состраданию, прощению, жалости…
Номер девять тысяч десятый, Яков Штейман, закрыв глаза, лежал на самом верху нар – четырехъярусного сооружения, прибитого к стене барака, и прислушивался к знакомым звукам. Босые ноги узников концлагеря «Эбензее» шлепали по бетонному полу барака все чаще и чаще. Он уже знал, в какой момент надо спрыгивать с наполненного сеном матраца вниз, на холодный пол. Не опаздывая, в нужную секунду, иначе дубинка капо опять пройдется обжигающим взрывом по его костлявой спине.
Шум босых ног усиливался.
Его привычную монотонность редкими вкраплениями нарушала негромкая людская перебранка, но она тут же стихала после гортанного выкрика старосты барака. Штейман был сильно впечатлен приснившимся, он мог поклясться чем угодно, что отчетливо видел ту самую позицию из решающей партии турнира, где он мог одним правильным ходом завоевать заветный титул. Но, увы, в жизни всё бывает далеко не так, как нам хочется.
«Пора!» – Яков медленно приподнял тело над своей постелью, повернулся вправо, свесив ноги вниз, и спрыгнул на бетон.
Он почувствовал привычную дрожь в ногах после этого ощутимого удара; наклонился, энергично погладил руками колени, потом с замиранием сердца медленно пошел на выход.
Февральское солнце лениво поднималось из-за горизонта. Серые стены, серая земля, серое небо. Серые деревянные ботинки стояли, как всегда, длинными рядами вдоль барака. Штейман быстро нашел свои, с вырезанными сбоку инициалами «Н. Вет.», сунул в них босые ноги и ускорил шаг в направлении огромного плаца.
Утреннее построение.
Оно было самой страшной процедурой в жизни заключенных. Все знали, что кто-то сегодня обязательно попадет в «отброс». Так немцы называли категорию людей, которые, по их мнению, уже непригодны для тяжелой работы в шахтах Эбензее. Несчастных выводили из длинной шеренги доходяг, одетых в одинаковые полосатые робы. Обычно эту процедуру проводил дежурный офицер-эсэсовец. Поигрывая резиновой дубинкой, он медленно шел вдоль строя, внимательно вглядываясь в лица узников.
«Du! Ты!» – тыкал он во впалую грудь очередного несчастного. Тот понуро выходил из строя, присоединяясь к небольшой группе обреченных. Иногда жертвы пытались протестовать, молить о пощаде, но всем было известно, что спустя секунды их жалобные крики прервет короткая очередь из «Шмайсера». Такие люди даже вызывали молчаливое осуждение со стороны некоторой части заключенных. Потому что их тела надо было тащить волоком на другой конец лагеря, к крематорию, а это трата драгоценных сил, которых может не хватить во время работ в штольнях.
Именно так неделю назад погиб сосед Якова по нарам, номер 9888-й, назвавшийся для всех Иваном Гавриловым. Накануне рокового дня, словно почувствовав приближение конца, он после отбоя придвинулся к Штейману и зашептал тому на ухо:
– Ты знаешь, Яша, я не тот, за кого себя выдаю…
Увидев недоуменный взгляд 9010-го, он продолжил:
– Я никакой не Гаврилов! Стеблин моя фамилия, не слыхал? Вячеслав Стеблин!
Яков медленно покачал головой.
– Ах, да… ты же не из наших… Я в Крыму руководил, первый секретарь горкома Ялты, не веришь?
Его глаза с расширенными зрачками горели тем фанатичным огнем, что бывает только у глубоко верующих людей во время пасхальной молитвы.
– Да ты что? Неужели – первый секретарь? – Штейман подался вперед.
– Тихо. Да, это так. Я говорю, чтобы ты знал на всякий случай. Эх, Яша, выбраться бы нам отсюда живыми! Я только об одном Бога молю!
Перехватив недоверчивый взгляд соседа, Стеблин быстро зашептал:
– А кто нам может помочь, кроме Всевышнего? Станешь тут таким же верующим, каким был мой дед. Только бы нам дотянуть, только бы выжить! Я бы тебя, Яша взял с собой в Ялту! Ты, я вижу, очень толковый мужик. Как бы мы зажили там, в Крыму! Ты даже не представляешь, как бы мы зажили! Еще лучше, чем до войны. Как короли!
Утром следующего дня Стеблин и еще один доходяга из соседнего барака, задыхаясь, волоком тащили убитого перед строем еврея из Варшавы, грузного, неподъемного.
– Шнеллер! Быстрее! – подстегивал их автоматчик с немецкой овчаркой на поводке. Бывший первый ялтинский секретарь горкома обливался потом, до крематория было несколько сот метров, а им надо было поспеть за группой «отброса» – сгорбившимися людьми, обреченно, медленно делающими последние шаги в своей жизни. Там, перед кровожадной трубой, они сядут на скамеечки, где им сделают усыпляющие уколы. Когда их тела обмякнут, специальная группа узников по очереди затолкает несчастных в бушующий, не гаснувший ни днем, ни ночью, огонь.
Едва Стеблин с напарником стали отставать, как тут же получили по тяжелому удару прикладом между лопаток. За убитым евреем из пулевых отверстий на теле тянулись красные полосы. Собрав последние силы, они едва дотянули кровоточащее тело варшавянина до скамеек. Жадно хватая ртом воздух, на минуту остановились перевести дух.
Но вечером, в штольне, ему не хватило именно этих потраченных сил. Он рухнул на мокрую горную породу. Мучаясь от жажды, пытался слизать языком влагу с камней, но тут, на его беду, рядом оказался быкоподобный эсэсовец по кличке «Буйвол».
– Руссишь швайн!! Штейн ауф! Встать! – заревел немец и с силой ударил Стеблина дубинкой. Бывший секретарь Ялтинского горкома вздрогнул всем телом, попытался подняться, но дрожащие руки соскальзывали с камней, ноги предательски онемели. Вячеслав понял, что пришел его роковой миг, он сумел поднять голову, и хрипло выдавить из себя последние слова:
– Будьте вы прокляты, сволочи, будьте вы…
Эсэсовец озверел и накинулся на военнопленного с нечеловеческой яростью. Он бил и бил уже безжизненное тело, пока кровь из разбитой головы не залила почти всю полосатую робу номера 9888-го…
«Как мы будем жить с тобой, Яша… Как в раю… как короли…»
Но нынешнее построение на плацу, а также вчерашнее и позавчерашнее, разительно отличались от привычных. На них никого не убивали, что было чрезвычайно удивительно. Два дня назад в лагерь прикатило большое начальство в лице генерала и трех полковников СС. Весь лагерь, все обитатели бараков плотным строем стояли перед деревянными корпусами, едва умещаясь на длинной центральной улице Эбензее.
Такое случалось нечасто. Люди тихо перешептывались, ожидая услышать важную новость.
Они не ошиблись.
Заключенным был представлен новый комендант лагеря, оберштурмбанфюрер СС Франц Нойман. Никто не знал, куда подевался бывший хозяин Эбензее, майор Отто Крамер, ходивший по лагерю с вечным выражением брезгливой скуки на бульдожьем лице. И как всегда в сопровождении собаки по кличе Лорд. Та была натренирована на людей и, едва завидев пса, узники старались как можно скорее исчезнуть с поля зрения лагерфюрера. Лишь несколько недель спустя до заключенных дошли слухи, что он оказался старым другом какого-то офицера, замешанного в покушении на Гитлера.
Генерал забрался на небольшое деревянное возвышение, служившее чем-то вроде трибуны, пролаял короткую речь, похвалив Ноймана за некие заслуги перед рейхом. Потом сел в черный «Мерседес» и уехал прочь.
Когда стих рокот двигателя, в лагере воцарилась напряженная тишина. Все ждали, с чего начнет свое правление «новая метла». Бывший комендант Отто Крамер начал с того, что приказал всем лечь на стылую землю в морозное утро и продержал узников в таком положении целый час. На следующее утро больше половины лагеря чихало и кашляло…
Оберштурмбанфюрер СС Франц Нойман медленно обвел взглядом все пространство, заполненное полосатыми робами, и улыбнулся. Эсэсовский мундир сидел на его высокой фигуре как влитой, на ногах блестели начищенные сапоги без единой пылинки. Железный крест, значок за ранение. Светлые волосы, глубоко посаженные голубые глаза. Его облик можно было считать идеальным для образа истинного арийца, «белокурой бестии», но все портил нос. Крючковатый, с горбинкой посередине, он словно клюв орла нависал над тонкой верхней губой и узкой полоской усиков в стиле а-ля фюрер.
– Guten Morgen! – это отрывистое приветствие никогда не звучало в утренние часы перед заключенными. Шеренги от неожиданности всколыхнулись, в воздухе пронесся гул удивления.
– Охренеть! – громким шепотом произнес сосед Яши по строю, стоявший перед ним, в первой шеренге, маленький Лёня Перельман из Одессы. – Как говорила мама, я думаю, что мои уши ошибаются! Верно?
И он слегка толкнул локтем соседа. Высокий, худощавый узник, бывший учитель литературы, поэт Дима Пельцер из Харькова удивленно подтвердил:
– Невиданная галантность. Быть может, потому что фронт приближается к Германии?
– Тихо вы! – зашипел стоящий во второй шеренге бывший власовец Игнат, со странной фамилией Негуляйполе. – Щас доболтаетесь о фронте, шмальнет из «Вальтера» промеж глаз и поминай, как звали!
– Не шмальнет. По роже видно, что не из мясников… – задумчиво произнес номер 9001-й, один из самых «авторитетных» заключенных, по имени Лев Каневич. Между узниками ходили упорные слухи, что он был резидентом советской разведки в Италии. Каневич, словно подтверждая догадки, держался обособленно, высокомерно, и даже позволял себе не выходить на работу в шахте. Другого заключенного эсэсовцы за это убили бы в три секунды, однако Льва не трогали, выполняя, видимо, приказ начальства из абвера. Каневича примерно раз в две недели вызывали на допрос; иногда он возвращался избитый, но на своих ногах и в сознании.
– Вот это-то может быть и не очень хорошо… – с тревогой сказал номер 9009-й, широкоплечий мужчина по фамилии Соколов. – Что-то мне его рожа не нравится. На мясника не похож, конечно. На садиста с фантазией смахивает! – резюмировал он после паузы.
– Тихо ты, сокол! – опять зашипел Негуляйполе. – К нам идет, докаркались!
Франц Нойман медленно шел вдоль строя. Он мило улыбался, словно перед ним стояли не презренные рабы рейха, а старые друзья-однокашники, которых он давно не видел. Заключенные, остававшиеся за его спиной, облегченно вздыхали, провожая эсэсовца взглядом.
Полная тишина.
Лишь изредка коротко взлаивали овчарки, нарушая скрип отполированных сапог нового хозяина Эбензее. Нойман подошел к Лёне Перельману и остановился.
Строй замер.
Комендант протянул палец в кожаной перчатке к носу одессита и негромко сказал:
– Какой выразительный иудей! Ни с кем не спутаешь…
Перельман сжался. Стоявший рядом староста блока номер девять Миша по кличке Цыган, свирепо вращая белками огромных глаз, зашипел:
– Представься господину коменданту, скотина жидовская!
– Номер девять тысяч одиннадцатый! – отрапортовал испуганный Перельман, одновременно сорвав с головы полосатую шапочку.
– Гут! – коротко бросил Нойман, и Лёня понял, что сегодня его жизнь не оборвется. Немец сделал небрежный жест перчаткой:
– Лечь!
Одессит мгновенно бухнулся на землю. Короткая радость сменилась ужасом. «Все, сейчас меня убьют» … – Лёня закрыл глаза, приготовившись к смерти. Он лежал в пыли, не видя, что комендант совершенно потерял к нему интерес. И эсэсовец в упор смотрит на Якова Штеймана, по-прежнему улыбаясь.
Охранники придвинулись поближе, думая, что комендант выбрал первую жертву. Ариец вонзил остекленевшие глаза в переносицу Якова, словно кобра перед броском на добычу. Сердце заключенного билось с немыслимой силой, кончики пальцев онемели, но Штейман упорно не опускал голову, его взгляд был тверд и ясен.
– Повернись! – приказал эсэсовец.
– Налево кругом! – дублировал команду староста.
Яков, стукнув каблуками, выполнил поворот. И тут случилось неожиданное. Франц Нойман засмеялся, радостно и счастливо.
– Ком! Иди! – поманил заключенного пальцем. – Я тебя знаю. Но забыл… Как твое имя?
– Шаг вперед, представься! – зашипел Миша-цыган.
– Заключенный номер девять тысяч десятый! – произнес узник.
– Найн! Нет! – чуть поморщился Франц. – Дайне наме? Твое имя?
– Николай Ветров… – прошептал Яков.
– Гут! Зер гут! – радостно оскалился эсэсовец. – Ты есть шахшпилер? Шахматист? Да? Громче!
– Да… – произнес Яков, и холодок недоброго предчувствия кольнул где-то рядом с бешено бьющимся сердцем.
– О! О! Какая встреча! – не переставал улыбаться комендант. – Я видел тебя на турнире в Баден-Бадене! За два года до войны. Зер гут! Какой неожиданный сюрприз, маэстро!
Эсэсовец наклонился к самому уху шахматиста и тихо прошептал:
– Но там, помнится, ты играл совсем под другой фамилией! Я её хорошо помню. Пусть здесь это будет нашей маленькой тайной, хорошо?
Штейман молчал, ошеломленный, чувствуя на себе сотни взглядов со всех сторон.
Новый комендант дружески похлопал его по плечу:
– Ты не есть бояться! – на ломаном русском произнес Нойман. – Ты есть радоваться! Я люблю и ценю таких людей!
Немец повернул голову к своей свите и, смеясь, объяснил:
– Этот номер девять тысяч десятый очень хорошо играет в шахматы! В игру, которой я увлекаюсь с детства. Я знаю его по состязанию 37-года. Там, в главном турнире больше половины игроков были евреями. Почему они испытывают такую тягу к шахматам? Я часто задавал себе этот вопрос.
– Потому что не хотят работать физически, это болезнь всей их нации, господин оберштурмбанфюрер! – отрапортовал один из приближенных Ноймана, Курт Вебер, гауптштурмфюрер СС, и презрительно посмотрел на Штеймана.
– Нет, тут не всё так просто… – чуть задумчиво произнес Франц. – Меня давно интересует этот феномен. Ведь именно жиды Стейниц и Ласкер были первыми чемпионами мира. Впрочем, мы об этом поговорим позже. Гауптштурмфюрер!
– Слушаю, господин оберштурмбанфюрер! – вытянулся в струнку Вебер.
– Проследите, чтобы этот девять тысяч десятый не сдох на работе! Поставьте его на другую, более легкую. Он мне еще пригодится… – таким туманным предложением закончил приказ Нойман.
– Яволь, герр комендант! Так точно! – щелкнул каблуками гауптштурмфюрер.
– Всё! Разводите лагерь на завтрак, потом на работу! – бросил на ходу эсэсовец, направляясь в сторону административного здания. Затем остановился, словно о чем-то раздумав. Повернулся к Веберу и произнес:
– Капо девятого барака остаться здесь с этими двумя… – эсэсовец показал перчаткой на Штеймана и Каневича. – Вебер, идемте со мной!
Две черные фигуры, провожаемые тысячами взглядом, удалялись.
Строй облегченно выдохнул. Смерть, жадным коршуном витавшая над фигурами в полосатых робах, в это утро осталась ни с чем.
После утреннего развода из личного состава барака номер девять на плацу одиноко маячили три фигуры. Староста Мишка-цыган, Лев Каневич и Яков Штейман ждали особого распоряжения оберштурмбанфюрера Франца Ноймана. Они переминались с ноги на ногу, ежились, дышали на покрасневшие кисти с негнущимися пальцами; до весны 45-го оставалось несколько дней, на равнине уже зеленела свежая трава, но в горах легкий морозец всё еще давал о себе знать.
– Дай закурить… – попросил Каневич у капо.
– Пошел в задницу, король хренов! – раздраженно ответил цыган. – Ты уже и так должен мне три папиросы!
Кличка «Король» быстро прикрепилась к Каневичу после того, как однажды он наотрез отказался идти в шахту, и к изумлению заключенных новенького под номером 9001 не расстреляли перед строем, не повесили потом на неделю вниз головой для острастки. Бульдожья морда майора Отто Крамера излучала великое сожаление по этому поводу; он лишь ограничился зуботычиной, после которой Лев едва не упал (сзади поддержали товарищи по бараку) и злобно прошипел:
– Жидовская мразь, если бы не эти идиоты из абвера… я б тебя…
И он, с трудом оторвав левой рукой свою правую кисть, уже лежащую на кобуре парабеллума, быстрым шагом покинул плац.
– Не жмись, Мишель! – на французский манер назвал цыгана Каневич. – Свои люди, потом сочтемся!
– Какие «свои»? – презрительно протянул староста. – Это краснопузые комиссары тебе свои! Ты ноги тут протянешь очень скоро, а мне папиросы еще пригодятся!
Представитель цыганского племени был фактурной личностью. Высокий, под метр девяносто ростом, он ходил прямо, важно выпятив грудь вперед. Черные курчавые волосы, такого же цвета глаза, бородка, жилистые руки, непропорционально длинные, едва не доходившие до колен. Но самым большим отличием его от остальных узников было выражение глаз, постоянно свирепых, как будто с признаками сумасшествия. Поэтому немцы сразу заприметили этого арестанта и дали ему власть над заключенными, назначив сначала помощником капо барака №6 – блокэльтестером, а спустя месяц – главным в девятом блоке.
Капо не понимал, почему Каневич до сих пор жив, нюхом чувствовал, что не просто так и поэтому побаивался наглого арестанта.
– Смотри, как бы твои арийцы тебя здесь не пришили раньше! – насмешливо ответил «Король». – Ты как будто забываешь, что фронт катится с Востока на Запад, а не наоборот!
– Это еще посмотрим, кто кого! – злобно огрызнулся Миша. – Фюрер обещал новое оружие!
– Которое, случаем, не здесь будет производиться? – Каневич кивнул головой на огромную гору рядом с лагерем. Цыган испуганно оглянулся.
– Мое дело маленькое, я не знаю, где и что будет производиться. Я должен поддерживать порядок в бараке, остальное меня не касается!
– Еще как коснется при случае… – напустил туману Каневич. – На тебе, говорят, почти полсотни жизней висит. Так?
Глаза цыгана округлились, белки засверкали звериной ненавистью. Он открыл рот, чтобы ответить номеру 9001-му, как стоявший рядом Штейман тронул старосту за рукав.
– Тихо… Вебер идет.
Курт Вебер
Гауптштурмфюрер СС Курт Вебер не стал примерным немцем, правильным «бюргером». Его отец, трудившийся всю жизнь на угольных шахтах близ Дортмунда, являлся предметом скрытых насмешек подрастающего юнца. Скопив денег, Герхард Вебер, перевез семью в Берлин. Там он устроился в кампанию, разрабатывающую подземные тоннели столичного метро. Курт ни за что не хотел продолжать шахтерскую династию, на чем настаивал «фатер», а грезил военной и политической карьерой. Когда партия Адольфа Гитлера пришла к власти, младший Вебер тут же вступил в неё, несмотря на протесты отца.
– Дался тебе этот австрияк! – недовольно бурчал Вебер – старший. – Болтун еще тот! Чувствую, доведет он наш фатерланд до беды…
– Вы ничего не понимаете в политике, папаша! – с раздражением восклицал Курт. – Фюрер великий человек! И скоро мы отомстим за унижения Версальского мира! Германия возродится из пепла!
– Ну, посмотрим, посмотрим… – кряхтел отец, отмывая под краном въевшуюся в кожу грязь. – Пока не чувствуется подъема экономики, о чем кричал твой кумир.
Курт зло прищуривал глаза, встряхивая головой, порывисто откидывал со лба свисающую челку «а-ля фюрер» и цедил сквозь зубы:
– Вы бы, папаша, попридержали язык. Ваши игры в профсоюзы на шахте, а также сочувственные взгляды в сторону коммунистов могут плохо закончиться! Я помню, как вы восхваляли Розу Люксембург, эту идиотку!
– Ты мне угрожаешь? – удивленно поднял брови шахтер. – До чего я докатился… и это – мой сын? Да я тебя сейчас!
– Не надо, Герхард… – кисть жены, Эммы, мягко легла на задрожавшую руку горняка. – Курт молод, горяч… Это пройдет.
– Не пройдет, моя милая мамочка! – сверкнул глазами член национал-социалистической партии Германии. – Мы вышвырнем из страны всех этих недочеловеков – жидов, цыган, славян! И тогда наш фатерланд расцветёт, как горный эдельвейс!
– Откуда ты только таких речей и мыслей набрался, сынок? – горестно вздохнула мать. – Ты же в детстве был таким добрым, ласковым мальчиком. Помнишь, как целыми днями бегал с сачком, ловил бабочек? Вместе с Сарой Штейн, нашей соседкой? И мне даже признавался, что влюблён в неё. Не обращая внимания, что она еврейка. А теперь? Откуда в тебе всё это?
– Читайте, муттер, «Майн кампф», и всё тогда поймете! – ледяным тоном парировал Курт. – Там фюрер прекрасно объяснил – что к чему! И перестаньте напоминать мне о детстве! Я уже вырос и скоро стану полностью самостоятелен!
– И чем же ты займешься, сынок? – спросил Герхард Вебер.
– Я добровольцем вступаю в армию фюрера! – вскинул голову Курт. – Чувствую, меня с нетерпением ждут великие свершения!
Отец с расстроенным видом покачал головой. Эмма хотела что-то сказать, как в дверь вдруг постучали.
– Кто там? – спросил старший Вебер.
– Можно? – произнес девичий голос.
– Да, входите, Сара… – с улыбкой ответила мать Курта. – Мы как раз собираемся ужинать.
Дверь отворилась, и в прихожую трехкомнатной квартиры Веберов впорхнула невысокая, черноволосая девушка. Жесткие кудри тёмным водопадом рассыпались по её плечам, заканчиваясь милыми завитушками чуть ниже лопаток. Она была одета просто, но, как говорится, со вкусом и модно – темная юбка в едва заметную полоску, стильный жакет, в тон ему туфельки с пряжкой, голову украшала игривая шляпка.
Щеки Сары играли тем веселым румянцем, что свойственен только молодости, большие карие глаза искрились застенчивой улыбкой.
Курт демонстративно отвернулся к окну. Сара бросила на него мимолетный взгляд и выпалила:
– А я пришла с вами проститься!
– Что такое? – вскинул голову старший Вебер. – Что значит проститься?
– Поступила в Кёльнский университет! – с гордостью сообщила девушка. – И вот завтра уезжаю… – она снова посмотрела на Курта.
Тот не реагировал.
– Какая ты молодец! Поздравляю! Как родители твои? Наверное, рады! – Эмма с улыбкой любовалась соседкой. – На каком факультете будешь учиться?
– Философия. Мы с Куртом как-то поспорили, может ли девушка понимать мышление таких людей, как Эммануил Кант? Он категорически утверждал, что – нет. И вот, как будто по его заказу мне довелось раскрывать на экзамене именно эту тему. Ты проиграл спор, Курт!