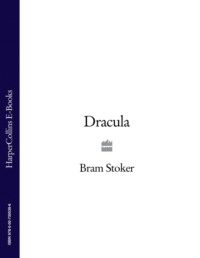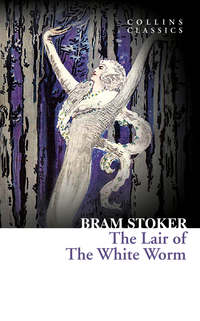Полная версия
Дракула
То, что я увидел, было головой хозяина дома, высунувшегося наружу. Лица я не видел, но все же человек легко узнавался по шее и движениям спины и рук. В любом случае, что-что, а уж их-то я точно определил после многочисленных возможностей изучения. Поначалу его поза меня заинтересовала и позабавила (как мало, однако, нужно узнику для удовольствия!). Но вскоре чувства мои сменились ужасом, когда я заметил, что теперь вся фигура вылезла из окна и начала медленно спускаться по стене навстречу темной бездне головой вниз! Плащ его бился на ветру, подобно гигантским крыльям. Я не верил своим глазам. Я отчаянно цеплялся за надежду, что это всего лишь причудливая игра теней и зыбкого лунного света. Продолжая пристально вглядываться, я вскоре отказался от самообмана. Я отчетливо видел, как цепкие пальцы рук и ног обхватывают каменные выступы в тех местах, где дождь и ветер долгие годы трудились над цементным раствором. Фигура продвигалась вниз со скоростью ящерицы, ползущей по стене.
Что это за человек или что это за существо в человечьем обличии? Я чувствую, как ужас окатывает меня ледяной волной. Я в страхе – я в диком страхе, и для меня нет выхода. Я парализован увиденным кошмаром и просто не осмеливаюсь думать о…
15 мая. – Я снова видел графа, ползущего, словно ящер, по стене. Он спускался вниз, одолел добрую сотню футов, а потом еще долго карабкался куда-то влево. В конце концов он проскользнул в какую-то дырку или окно. Как только он засунул внутрь голову, я сразу же выглянул, чтобы рассмотреть как можно больше, однако попытка эта ни к чему не привела: расстояние было слишком большим, а угол обзора очень неудачным. Теперь, когда хозяина замка нет, я намерен осмотреть все закоулки, к которым не осмеливался приближаться в его присутствии. Я вернулся в свою спальню за лампой, а потом попробовал толкать все двери. Как я и ожидал, они оказались запертыми, причем замки на них были установлены относительно новые. Не успокоившись на достигнутом, я спустился по лестнице в холл. Там я выяснил, что без особых затруднений могу отвинтить болты и снять заграждающие дорогу цепи; но сами двери оказались закрытыми, а ключи исчезли вместе с хозяином в неизвестном направлении! Но вдруг они все же у графа в комнате? Надо проверить, закрыты ли его покои – может статься, я сумею бежать. Я тщательно исследовал все лестницы и пролеты, попробовал каждую дверь на них. Одна или две небольшие комнаты рядом с холлом оказались не заперты, но ничего интересного в них не нашлось, кроме старой мебели с пыльной обивкой, местами побитой молью. После долгих и тщетных поисков я все же обнаружил в самом конце лестницы одну дверь, которая, хоть и выглядела закрытой, немного поддалась моему нажиму. Навалившись посильнее, я понял, что на самом деле замка там не было, но за долгие века петли проржавели и осели так, что теперь сама дверь опиралась на пол. Мне представлялась возможность, упускать которую стало бы верхом легкомыслия, поэтому, собравшись со всеми силами, я толкнул ее в третий раз, и та упала. Теперь я находился в той части замка, которая лежала правее моих покоев и, конечно, много ниже знакомого мне этажа. По виду из окна следовало, что это южная сторона; окна в дальнем конце комнаты выходили на юг и на запад. Внизу со всех сторон шел отвесный обрыв. Замок выстроили на углу высокого утеса, поэтому с трех сторон он оказался совершенно неприступным и отлично защищенным от пращи, стрел и катапульт. С запада простиралась огромная долина, а за ней высилось нагромождение гор и скал, местами поросших рябиной и терновником, чьи цепкие корни крепко держались за каменные выступы и расщелины.
Очевидно, в незапамятные времена эта часть замка была жилой, поскольку здешняя мебель казалась милей и уютней, чем все, что я видел в остальных покоях. Сквозь голые окна луна заливала золотом все вокруг, лучи ее просачивались сквозь стекло и играли всеми цветами спектра на гранях в тех местах, которые еще не окончательно покрыл толстый слой вековой пыли, уже спрятавшей под собой разрушительные следы работы времени и моли. Свет моей лампы тонул и терялся в великолепии мощного потолка, и все же я был рад этому слабому огоньку, не дававшему мне почувствовать страшное одиночество среди этого унылого запустения, холодившего сердце и нервы. Но тем не менее здешняя атмосфера кажется несравненно приятней, чем та, что царит в моей комнате, когда там появляется граф. Взяв себя в руки, я наконец-то успокоился. И вот я уже сижу за старинным дубовым столиком, за которым, быть может, скрипела пером какая-нибудь прекрасная дама, задумчиво доверяя бумаге свою печаль и любовь; я стенографирую все события, что пронеслись передо мной с тех пор, как я закрыл свой дневник в последний раз. На дворе жестокий девятнадцатый век, а мне, коль скоро мои чувства не лгут, приходится жить в атмосфере древности, которую не в силах убить окружающая замок современность.
Позже, утром 16 мая. – Господи, молю тебя, не лишай меня остатков разума! Чувство безопасности и уверенности для меня уже в прошлом. Мне, живущему здесь, остается одна забота: не тронуться рассудком, если, конечно, я уже не сошел с ума. Но если рассудок мне все еще не изменил, то это, скорее всего, обязательно случится, ведь, размышляя об ужасах, происходящих в этом адском месте, я невольно прихожу к мысли о том, что граф среди них – наименьшее зло, поскольку пока только он в силах обеспечивать мою безопасность, по крайней мере до тех пор, покуда я ему нужен. Боже праведный, Боже милосердный, дай покоя мне в окружающем безумии! Сейчас я совершенно по-новому начинаю смотреть на знакомые и привычные вещи, и это странно. Нынче я сам, не доверяя больше своей памяти и здравомыслию, прибегаю к единственному свидетелю моих терзаний – к этой тетради. Кроме того, привычка скрупулезно вносить в дневник записи должна сослужить добрую службу и успокоить мой воспаленный рассудок. Предостережение графа, полное тайной угрозы, испугало меня, но теперь, когда я о нем думаю, оно страшит меня еще сильнее. Я издерган так, что боюсь даже усомниться в его словах.
Закончив писать, я положил в карман тетрадь и ручку и тут же почувствовал, как меня клонит в сон. В сознании моем сразу всплыла угроза Дракулы, но я нашел особое удовольствие в неповиновении. Усталость затейливо переплеталась со страхом и упрямством, золотой свет луны успокаивал, а окрестные леса, тянувшиеся до самых гор, дышали свободой. Я твердо решил этой ночью не возвращаться в свою камеру, полную тоски и липкого мрака, а остаться здесь, где в старые времена дамы сидели, пели и предавались светлой печали об ушедших на войну любимых. Передвинув кушетку так, чтобы можно было свободно любоваться восхитительным видом из окна, презрев пыль и страхи, я кинулся в объятия сна.
Должно быть, я отключился моментально – я хочу в это верить; однако последующие события столь пугающе реальны, что теперь, сидя утром в лучах теплого солнца, я не допускаю и мысли о том, что все это мне пригрезилось.
Я был не один. Комната оставалась все той же с тех пор, как я вошел в нее: в свете луны я отчетливо видел собственные следы, отпечатавшиеся на толстом ковре из пыли. В лучах прямо напротив меня стояли три молодые женщины, судя по платьям и манерам, несомненно, леди. Первой мыслью моей стало, что я все еще вижу сон, ведь их призрачные фигуры совсем не отбрасывали тени. Они придвинулись ближе и принялись молча меня разглядывать, а затем до моих ушей донесся то ли шелест, то ли шепот. Две из них были темноволосы, с орлиными, как у графа, носами и огромными темно-карими глазами, в желтом свете луны казавшимися красными. Третья имела светлые волосы, почти белые, тяжелыми волнами искрившиеся и падавшие ей на плечи, и глаза цвета бледных сапфиров. Лицо ее казалось знакомым, но бок о бок с этими смутными воспоминаниями шел безотчетный страх, наполнявший сердце темной тревогой. У всех трех из-под хищных рубиновых губ виднелись жемчужные зубы. Весь вид их внушал тоску и смертельный ужас. Словно монстр из черной бездны, в душе моей поднялось желание ощутить на себе прикосновение их алых губ. Очевидно, дурно писать об этом, ведь однажды эти бумаги могут попасть Мине и ранить ее, – но это чистая правда. Они о чем-то шептали, а потом, словно последний выдох, из них вылетел смех, такой серебристый и легкий, полный неземной музыки, какой не смог бы воспроизвести ни один смертный. Светловолосая девушка тряхнула головой, подруги ее торопили:
– Давай же, – сказала одна. – Ты первая, а мы потом. У тебя право начать.
– Он молод и силен, – вторила ей другая. – Его поцелуев хватит на всех.
Я неподвижно лежал, прикрыв глаза и сотрясаясь от вожделения. Первая незнакомка приблизилась и склонилась над моим телом так низко, что я мог чувствовать ее дыхание. Оно было сладким, подобно меду, вызывая то же желание, что и ее голос; но под сладостью скрывалось что-то другое, похожее на горькое оскорбление, – запах крови.
Я боялся раскрыть глаза, но даже сквозь ресницы отчетливо видел ее фигуру. Белокурая леди опустилась на колени, пожирая меня взглядом. Хищный оскал ее одновременно отталкивал и притягивал; точно животное, она нетерпеливо облизывала губы; алый цвет следовал за белым, а белый за алым в таинственной и сумасшедшей игре. Все ниже и ниже склонялась она надо мной, в миллиметре проскользая над моими губами и подбородком, останавливаясь на шее и сгорая от томительного нетерпения. Я слышал ее горячее дыхание у моего горла, я видел ее острые клыки. Кожу мою начало покалывать, как это бывает, когда кто-то грозит защекотать тебя до смерти и подносит свою руку все ближе и ближе. От мягкого касания губ по коже шел мороз, зубы слегка давили на шею; я закрыл глаза, предавшись тяжелому экстазу, и лишь сердце мое гулко билось в возникшей напряженной тишине.
В то же самое мгновение меня поразила мысль, подобно молнии, вспыхнувшая в моем сознании. Каждой клеткой своей я почувствовал присутствие графа, обуреваемого безумной яростью. Невольно я раскрыл глаза и взглядом уперся в его сильную руку, сжимавшую бледную шею блондинки, глаза которой теперь сверкали злобой, зубы оскалились, а на щеках играл лихорадочный и страстный румянец. Но граф! Столько бешеного неистовства не смог бы вместить в себя ни один демон из преисподней. Глаза его горели огнем, который шел не столько из глубины души, сколько из самого ада. Лицо его покрывала мертвенная бледность, черты ожесточились: брови, смыкавшиеся на переносице, отливали металлическим блеском. Заключив девушку в свои страшные объятия, он оторвал ее от моего ложа, а затем шагнул к ее сестрам, наступая на них, силой взгляда нанося им удары и заставляя ретироваться; тот же самый прием я уже видел при встрече с волками. Тихо, почти шепотом, он воскликнул, и слова его, казалось, точно стрелы, рассекали воздух:
– Как смели вы до него дотронуться! Как осмелились вы взглянуть на него, когда я вам это запретил? Назад, я приказываю вам. Этот человек мой! Сторонитесь его, иначе будете иметь дело со мной.
Светловолосая, злобно и одновременно кокетливо рассмеявшись, бросила в ответ:
– Ты сам никогда не любил, никогда!
Подруги ее согласно закивали, и по комнате раскатился тяжелый, бездушный и мертвый смех, чуть было не ставший причиной моего обморока; так могут смеяться только дьяволы, но не люди. Внимательно на меня посмотрев, граф снова обернулся к ним и тихо прошептал:
– Я тоже умею любить; вы это знаете сами, не так ли? А теперь я обещаю вам, что как только с ним покончу, вы сможете целовать его целую вечность. Сейчас идите. Прочь! Я должен его разбудить и закончить начатое.
– Неужели этой ночью нам ничего не достанется? – спросила горбоносая красавица, низко рассмеявшись и жестом указав на сумку, которую раньше граф швырнул на пол.
Та двигалась, словно в ней сидело что-то живое. В ответ граф лишь молча кивнул. Одна из женщин прыгнула к сумке и тотчас ее открыла. Если только слух не подвел меня, оттуда раздался тихий и слабый плач, какой может издавать лишь сонный ребенок. Бестии столпились вокруг, ужас сковал меня, и я невольно закрыл глаза, а когда открыл их вновь, те уже исчезли вместе со своей страшной ношей. Поблизости не было дверей, а мимо меня они точно не проходили. Казалось, они просто растворились в лучах луны и дымкой вытекли в окно, за стеклом которого я еще мгновение различал их смутные призрачные очертания.
Ужас окончательно овладел мною, и я впал в забытье.
Глава 4
Путевой журнал Джонатана Харкера (продолжение)
Проснулся я в собственной постели. Должно быть, граф сам перенес меня сюда. Я пробовал собраться с мыслями, но все они растекались, оставляя в душе лишь тоску и томительное неведение. И все же вокруг я заметил свидетельства того, что этой ночью я точно не сам улегся в кровать: одежда моя лежала рядом, сложенная так, как я этого никогда не делал; часы стояли, хотя я привык заводить их перед сном, и много еще подобных мелочей. Однако все это нельзя признать очевидными доказательствами, что сознание мое не сыграло со мной страшную и злую шутку. Мне нужны улики. Остается радоваться только одному: если это граф принес меня сюда и раздел, то он, по счастью, спешил – содержимое моих карманов осталось нетронутым. Мой дневник, несомненно, вряд ли оставил бы его равнодушным. Разумеется, он забрал бы его с собой или попросту уничтожил. Оглядывая теперь свою комнату, все еще полную страхов и загадок, я воспринимаю ее как убежище, в котором я могу спрятаться от тех кошмарных женщин, которые хотели – которые хотят напиться моей крови.
18 мая. – Я снова спустился в ту комнату, чтобы рассмотреть ее при свете дня. Я должен знать правду. Толкнув дверь на лестнице, я обнаружил, что она заперта. Кто-то захлопнул ее с такой силой, что часть деревянного косяка треснула и отвалилась. Тем не менее засов оказался не задвинут – что-то подпирало ее изнутри. Боюсь, то все же был не сон…
19 мая. – Несомненно, я в ловушке. Прошлым вечером граф самым обходительным образом попросил меня написать три письма, в которых говорилось бы, что моя работа почти завершена; в первом он просил меня указать, что я выезжаю домой через несколько дней, во втором – что я отправляюсь следующим утром, а в третьем – что я уже покинул замок и прибыл в Бистрицу. Вся моя сущность противилась этой лжи, но восстать против графа в сложившихся обстоятельствах было бы полным безумием. Я все еще весь в его власти; отказать – значило возбудить его подозрения и навлечь на себя гнев. Ему известно, что я знаю слишком много, что я опасен и в живых меня оставлять нельзя. Единственным шансом для меня остается тянуть время. Быть может, случится еще что-нибудь, что поможет мне бежать. В глазах его ясно читалась решимость, когда он давал обещание белокурому приведению. Дракула объяснил мне, что почтовые кареты здесь столь малочисленны и ненадежны, что, написав сразу три письма, я позволю друзьям не беспокоиться и фактически никого не обману. Он заверял меня, что все письма, кроме последнего (на случай, если я решу задержаться), будут отправлены в нужный срок из Бистрицы, так убедительно, что мои возражения, несомненно, породили бы подозрения. Притворившись, будто вполне доволен его объяснением, я спросил, какие числа поставить на письмах. Подумав с полминуты, он продиктовал:
– Первое датируйте двенадцатым июня, второе – девятнадцатым, а третье – двадцать девятым.
Вот я и узнал отпущенный мне срок. Господи, помоги!
28 мая. – У меня появилась возможность бежать или по крайней мере отправить домой весточку. Табор шган завернул в замок и расположился у нас во дворе. Эти шгане (о них я читал в атласе) – прелюбопытный местный народ, родственный обычным цыганам, встречающимся всюду по свету. Тысячи их живут в Венгрии и Трансильвании вне закона. Как правило, они прибиваются к какому-нибудь знатному лицу, бояру, и кличут себя по его имени. Они сумасброды и безбожники, у них есть лишь суеверия, и говорят они на одном из романских наречий.
Я напишу несколько писем в Англию и попробую попросить их отправить мои послания. Чтобы завязать знакомство, я уже разговаривал с ними через окно. Они почтительно сняли шляпы и резво принялись жестикулировать, причем знаки эти были понятны мне не больше, чем их язык.
Я написал: Мине – стенографией, а в записке Хокинсу была лишь просьба связаться с Миной. Ей я объяснял, в какое попал положение, но не упоминал всех кошмаров, что случились со мной здесь, поскольку это могло прозвучать крайне невероятно. Открыть ей сердце – значит шокировать и испугать до смерти. Даже если письма не будут отправлены, граф все равно не узнает мою тайну и то, как много мне известно…
Я отдал письма: кинул их через щель в окне вместе с золотом и знаками объяснил, что хочу их отправить. Человек, подобравший конверты, прижал их к груди и поклонился, а потом спрятал бумаги у себя в шляпе. Большего я сделать не мог. Вернувшись в кабинет, я принялся за чтение. Поскольку граф не появлялся, я начал писать эти строки…
Граф пришел. Он сел рядом со мной и по-кошачьи мягко протянул мне два конверта.
– Цыгане передали мне это. Не знаю, что это за письма, но я о них позабочусь. Смотрите! Одно от вас моему другу Питеру Хокинсу, другое, – он вскрыл конверт, наткнулся на странные знаки, помрачнел и сверкнул глазами, – отвратительные каракули, плевок на дружбу и гостеприимство! Оно не подписано. Ну что ж! Ведь для нас это мало что значит?!
Он очень изящно подвинул второе письмо к пламени светильника, и огонь уничтожил бумагу. Дождавшись, когда та рассыпалась в прах, он продолжил:
– Письмо Хокинсу, разумеется, я отправлю по адресу, ведь оно ваше. Ваша переписка для меня священна. Простите мне, мой друг, что я по незнанию вскрыл печать. Не заклеите ли вы его снова?
С учтивым поклоном он протянул мне чистый конверт. Мне оставалось лишь молча переписать адрес и вручить его графу. Как только он закрыл за собой дверь, я услышал, как тихо щелкнул замок. Минутой позже я подошел к двери и обнаружил, что она заперта на ключ.
Пару часов спустя граф вернулся в мои покои, тем самым меня разбудив, поскольку я уже успел заснуть, лежа на диване. Он был сама любезность и приветливость. Заметив, что я сонно моргаю, он спросил:
– Мой друг, вы устали? Ступайте в кровать. Сон – лучший отдых. Боюсь, сегодня вечером я не смогу составить вам компанию – мне предстоит много трудов. Но вы спите, прошу вас.
Я ушел к себе в спальню и, как это ни странно, проспал без сновидений. В отчаянии есть свои хорошие стороны.
31 мая. – Проснувшись поутру, я решил немедленно переложить бумагу и конверты из саквояжа себе в карман, чтобы попробовать написать снова, как только представится подходящий случай. Но опять меня ждал то ли сюрприз, то ли шок.
Не осталось и клочка бумаги, а вместе с ней исчезли и все мои документы, расписания поездов, аккредитив – словом, все, что могло пригодиться вне замка. В оцепенении я просидел несколько минут, а затем решил обыскать свой бумажник и гардероб.
Дорожный костюм, равно как и плащ, и плед, исчезли бесследно и безвозвратно. Такой подлости я никак не ожидал.
17 июня. – Сегодня утром, проснувшись и пытаясь прийти в себя, я услышал дробь копыт, стучавших по булыжнику во дворе. Радостно кинувшись к окну, я увидел, как в замок въезжают два больших ляйтервагона, каждый с восьмеркой отличных лошадей в упряжи, с кучерами – словаками в широкополых шляпах, грязных накидках, высоких сапогах и с огромными подбитыми ремнями. В руках они держали длинные посохи. Я бросился к двери в надежде спуститься в главный холл, который, быть может, для них открыли. И снова потрясение: моя дверь заперта снаружи.
Подбежав к окну, я принялся кричать. Те подняли головы и тупо на меня уставились. В это время гетман цыган приблизился к ним, что-то сказал, и все рассмеялись. После этого никакие мои усилия, жесты, знаки, крики и вопли агонии уже не помогали. На меня никто не смотрел. В ляйтервагонах оказались громадные ящики с ручками из толстых канатов. Легкость, с которой словаки их выгружали, и характерный гулкий стук указывали на то, что они пусты. Когда все содержимое повозок выгрузили и составили в углу двора, цыгане дали словакам денег, те плюнули на них на счастье, лениво повернулись и поплелись к своим лошадям. Спустя немного я услышал, как свист их хлыстов тает где-то вдали.
24 июня, на рассвете. – Вечером граф рано меня покинул и заперся в своих покоях. Набравшись смелости, я выбежал на лестницу и посмотрел в окно, выходившее на юг. Я намеревался следить за графом, поскольку нынче происходит что-то важное. Цыгане расположились где-то в самом замке и выполняют какую-то работу. Я знаю это наверняка, поскольку слышу приглушенный стук то ли мотыги, то ли лопаты; но что бы там ни было, это должно означать лишь завершение какого-то бесчеловечного замысла.
Простояв у окна с полчаса, я заметил, как что-то движется в окне у графа. Я наклонился пониже и стал внимательно смотреть, вскоре увидев полностью всю фигуру. Меня поджидал еще один сюрприз: на нем был дорожный костюм, в котором я сюда приехал, а за плечами та ужасная сумка, что женщины унесли с собой в памятную мне ночь. Сомневаться в увиденном не приходилось. Вот он, коварный его замысел: в городе увидят, как «я» отправляю письма; местные опознают меня, и у графа будут развязаны руки делать со мной все, что заблагорассудится.
Я впадаю в ярость от этой мысли; я заперт здесь, подобно узнику, и нет закона, который мог бы меня защитить, нет прав, которые дают даже преступникам.
Я решил дождаться возвращения графа и как прикованный долго сидел на своем посту, когда вдруг начал замечать какое-то серебристое поблескивание в свете луны. Это было похоже на танец пылинок в луче: они то кружились, то собирались вместе в сгустки, то опять разлетались. Отрешенно следя за их движением, я погрузился в спокойное и умиротворенное состояние. Откинувшись глубже на подоконник, я устроился поудобней и всецело предался чарующему зрелищу.
Неожиданный низкий и протяжный вой собаки где-то далеко в долине заставил меня вздрогнуть. Казалось, сквозь уши звук проникал в мое тело; ему вторила лунная пыль, начавшая принимать какие-то смутные формы и очертания. Инстинктивно я заставлял себя немедленно проснуться, но этому противилась душа, а чувства молили ответить на темный зов. Я был словно под гипнозом! Быстрей и быстрей искрился водоворот; лучи, пройдя через меня, преломлялись в этом бурном потоке и исчезали во мгле. Пыль прибывала с каждой секундой, и вскоре в ней начали проступать расплывчатые образы. Я вздрогнул, совершенно проснулся и сбросил с себя паутину сна. Закричав, я бросился прочь от страшного места. Образы, явившиеся мне в ночи, постепенно и неуклонно материализовывались из лунного света, принимая формы трех подруг из моего прошлого кошмара. Закрывшись в своей комнате, я почувствовал относительную безопасность: сюда не проникали колдовские лучи, а на столе ярко горела лампа.
Прошла пара часов, прежде чем я услышал какую-то возню в комнате графа: это было похоже на сдавленный крик; затем установилась тишина, глубокая, ужасная, пробиравшая до костей. Сердце прыгало где-то в горле. Я подошел к двери, но в который раз вынужден был смириться с ролью пленника – ее удерживал засов, с которым я ничего не мог сделать. Оставалось лишь сесть и разрыдаться.
Сидя, я услышал шум во дворе – безумный крик женщины. Я бросился к окну и уставился в черноту. Внизу действительно стояла растрепанная крестьянка, отчаянно прижимавшая руки к сердцу. Словно после долгого бега, она обессиленно прислонилась к каменным воротам. Увидев в окне мое лицо, она злобно завопила: «Чудовище, отдай мне мое дитя!» Она рухнула на колени, протянула ко мне руки и зарыдала, разрывая мне сердце. Несчастная рвала на себе волосы, била кулаками в грудь, отдаваясь полностью буре жестоких чувств. Наконец женщина упала, и хотя я не видел ее больше, до меня все еще долетали стуки ее ладоней о тяжелую неприступную дверь.
Где-то высоко над моей головой раздался голос графа, в котором явственно звучал металл. Крик его разнесся далеко в ночи, и ему вторили сотни волчьих глоток. Несколько минут спустя эти исчадия ада, словно вырвавшись на свободу, появились внизу во дворе.
Мать уже не кричала, и только животные яростно и коротко взвизгнули. Вскоре они уже спешили обратно, облизывая окровавленные пасти. В сердце моем не было жалости к женщине, поскольку я знал, что случилось с ее ребенком, и понимал, что смерть – лучший для нее выход.
Что мне делать? Что я могу сделать? Как бежать мне от ночи, колдовства и страха?
25 июня, утром. – Лишь только тот, кто страдал и терзался ночью, может понять, сколь дорог глазу и сердцу утренний свет. Как только солнце поднялось достаточно высоко, чтобы лучи его упали на ворота против моего окна, я почувствовал себя так, словно увидел не солнечного зайчика, а райскую голубку, посланную мне в утешение. Все страхи упали с меня, подобно истлевшему рубищу. Необходимо что-нибудь предпринять, покуда день дает мне силы и храбрость. Вчера вечером было отправлено мое фиктивное письмо, первое из тех трех роковых, что должны стереть всякий след моего существования.