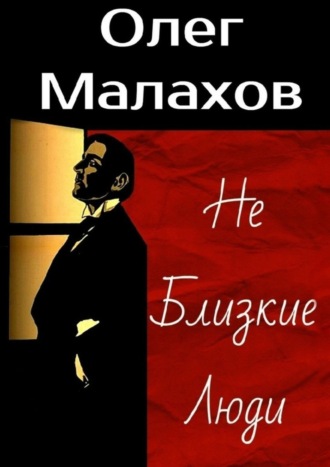
Полная версия
Не Близкие Люди
Прежде, чем войти в детскую, Модзалевский тщательно вымыл руки и надел домашние тапочки, чтобы как-нибудь ненароком не занести сюда, в это чистое и светлое царство, уличную грязь. И только после этого он позволил себе приоткрыть дверь детской и заглянуть туда, чтобы убедиться, там ли Елизавета Сергеевна.
Модзалевская была там.
Она только что закончила купать ребенка и теперь готовила для него молочную смесь (Модзалевские считали безнравственным пользоваться услугами кормилицы и кормили внука искусственно). Одетая в белый халат, с засученными рукавами, окруженная целым ассортиментном бутылок и склянок, она была сейчас похожа на ученого-химика из лаборатории. В детской было жарко, и пахло теплой сыростью от еще не вынесенной ванны.
Модзалевская разлила смесь в бутылочки, взяла у няни раскрасневшегося мальчика и ловким, привычным, движением завернула его в одеяло. Взяв его на руки, она поднесла к его губам бутылочку, и ребенок с деловитым видом поймал наконечник соски и стал торопливо сосать смесь, проводя глазами по потолку и стенам, словно изучая их.
Когда ребенок закончил, Модзалевская положила его поперек большой кровати на подушку и села рядом на стул.
– Ну вот и все, – промолвила она глядя на внука: – теперь будем спать.
Она днями и ночами ухаживала за внуком. Это ухаживание, очень усложнившиеся после скарлатины, отнимало у нее все время и давало ей возможность легче переносить горе. Она вся ушла в это сложное и кропотливое дело и спасалась им от невероятной тягости утраты. Это было для нее таким же отвлечением, как для её мужа его пристань и пароходы.
Модзалевский пришел сюда для того, чтобы переговорить с женой о новой жалобе зятя. Но в детской находилось постороннее лицо – няня, и он ждал, когда она вынесет ванну и уйдет.
– Ну, что, как там Сашенька? – спросил он жену.
– Лучше, слава богу.
Модзалевский взглянул на ребенка, на это маленькое живое воспоминание о любимой дочери, и ему стало грустно и опять хотелось плакать. Ему хотелось поговорить с женой о внуке, о его будущем, о его воспитании – но в душе острым клином сидела мысль о Лукомском и только что произошедшем разговоре с ним. Необходимо было завести разговор о нем.
Няня подняла мокрую, блестящую ванну и ушла с ней из комнаты. И Модзалевский нехотя начал.
– Что у вас опять произошло?
Он не сказал, с кем, но жена поняла.
– Послушай, Коленька, – негодующе начала она и покраснела от волнения: – я не понимаю, что это за человек такой? Я купала Сашу; было жарко, и я разделась, а он стучит в дверь и требует, чтобы я немедленно впустила его присутствовать при купании. Я ему русским языком говорю, что не могу, что я не одета, что некогда одеваться, потому что ванна остынет, а ребенок хочет спать. А он ничего слушать не хочет, я рассердилась и накричала на него.
– Эх, Лизанька! – поморщился Модзалевский.
В душе он был полностью согласен с женой. Но, по свойственной ему мягкости и деликатности, он не любил её резкостей и всегда старался смягчить их. К тому же сейчас надо было примирить враждующие стороны.
Ребенок заснул и Модзалевские перешли на шепот.
– Нельзя так, Лизанька! – промолвил Николай Павлович: – Не злодей же он, в самом деле… Я полагаю, что необходимо установить мир, – иначе нормально мы жить не сможем. Мы только нервы трепать друг другу будем – а толку никакого в этом нет.
– А чего он вообще здесь торчит? – продолжала Модзалевская, не слушая мужа: – он когда-нибудь уже уедет в свою командировку? У этого человека нет никакого такта! Ведь видит же сам, что ему здесь не рады, что он всем в тягость! Что, ему сына, что ли, жалко оставить? Никогда в это не поверю…
– Да, конечно, если бы он сейчас уехал в командировку, это было бы самое лучшее. – мечтательно согласился Модзалевский.
– Прожил бы год за границей, – говорила Елизавета Сергеевна: – все бы тут без него наладилось. Сашу выкормим, воспитаем как надо… А не то ведь просто сил, никаких нет! Усовести ты его, бога ради! Уговори уехать! Скажи, что нам и ему так легче будет.
– Я уже ему неоднократно говорил… – возразил Модзалевский: – вообще его не понимаю… Ясно только одно – что он томится и не находит себе места, и работа валится у него из рук, а между тем ему надо еще свои дела закончить, перед отъездом.
– А ты был в сиротском суде?
– Нет, не успел.
– Что же ты? Надо хлопотать!
Модзалевский собирался хлопотать о том, чтобы его назначили опекуном над ребенком, на случай, если Лукомский уедет за границу. Об этом уже был разговор с зятем, и тот не только соглашался оставить внука на это время у Модзалевских, но и сам просил их об этом и даже дал метрическое свидетельство Саши.
– Завтра же я съезжу в суд, – сказал Николай Павлович, поднимаясь со стула: – а теперь, в самом деле, попробую еще раз поговорить с ним насчет командировки.
И он пошел к зятю.
Зять был у себя в комнате. Когда Модзалевский вошел к нему, он рылся у себя в письменном столе с мрачным, не внушающим ничего хорошего видом.
Модзалевский шел сюда, искусственно смягчив и умиротворив себя. «Надо уже закончить все эти ссоры и склоки, – думал он: – надо хоть как-нибудь установить приличные отношения.»
Но когда он опять увидел мрачную фигуру этого человека, насквозь пропитанного одним негативом к Модзалевским, – благие мысли и намерения стали быстро испаряться. Николай Павлович почувствовал, что внутри него снова закипает острая неприязнь к Лукомскому.
– Извините, что помешал вам, – против воли сухо произнес он: – нам надо объяснится, долго жить в таких условиях становится уже невозможно.
Лукомский продолжал рыться в столе, не меняя позы и, по видимому, начал злиться, так как его уши начали багроветь.
– Я тоже так считаю, это становится невыносимым! – ответил он: – но едва ли я виноват в этом…
– Зачем разбирать, кто прав, кто виноват? – промолвил Модзалевский, стараясь удержаться от овладевшего им раздражения: – Дело не в том, кто виноват, а в том, как установить более приличные отношения. И я думаю, Даниил Валерьевич, что не только нам нужно пойти на уступки, но и вам тоже. Вы чересчур требовательны. Вы не хотите не с кем считаться. Вот и сегодня вы совсем напрасно рассердились на Елизавету Сергеевну и не пожелали даже выслушать её объяснения!
Модзалевский незаметно сам для себя перешел от предполагавшихся уговоров к упрекам. Лукомский вспылил.
– Николай Павлович! Не я не хотел выслушивать объяснения, а maman… Я целых полчаса стоял перед закрытой дверью в детскую, вход в которую должен быть открыт для меня постоянно, как для отца ребенка, в любое время дня и ночи… Я убеждал maman, я объяснял ей все это и объяснял это раньше. И все-таки, несмотря на присутствие прислуги, меня не впустили, и теперь даже в глазах няньки я – пустое место. Неудивительно, что меня во всем доме никто в грош не ставит. Maman поразительна бестактна в этом отношении. Она совершенно не считается с обстановкой, и с присутствием посторонних лиц. Это уже не первый, не второй и даже не десятый такой случай. Это система!
– Ну, какая такая система? – рассердился Модзалевский: – Елизавета Сергеевна была раздета, одеться было некогда, а вы, извиняюсь за выражение, ломились в дверь как буйный. И я вас спрашиваю, это тактично? Вот это тактично по вашему? Да и вообще это такой вздор, такая чепуха, что и говорить бы не стоило, а вы делаете из мухи слона!
Лукомский пожал плечами.
– А я вам говорю, что это система. Так всегда делается. Все это, конечно, мелочи, но мелочи характерные, а главное унизительные для меня… Везде в этом доме проходит мысль, что я – пятое колесо в телеге, что я – никто в этом доме.
Модзалевский хотел было возразить, но ему стало нестерпимо скучно продолжать этот бестолковый спор, которому, по обыкновению, и конца не предвиделось.
– Бросим этот разговор! – предложил он: – Я не хочу с вами ссорится.
Лукомский тоже почувствовал, что спорить на эту тему бесполезно, раз его собеседник не понимает или умышленно не хочет понять его. Он сделал унылое («Достойное», как ему казалось) лицо и сказал:
– Я тем не менее хотел бы ссорится.
Наступила пауза. Модзалевский встал и прошелся из угла в угол.
– Что это вы делаете? – миролюбиво обратился он к зятю, остановившись перед ним: – собираетесь, что ли?
– Нет, я ищу портрет Елены, который стоял на комоде. Не понимаю, куда я мог деть его? Это лучший её портрет, и притом единственный. Да черт возьми где он? Как украл его кто…
– У нас в доме, слава богу, воров нет. – морщись сказал Николай Павлович.
Он помолчал и произнес другим тоном:
– А я уж серьезно подумал, что вы собираетесь. И я, между прочим, хотел даже побеседовать с вами на счет вашей командировки за границу.
Лукомский услышав эти слова насторожился.
– О чем именно? – сухо спросил он.
– Послушайте, Даниил Валерьевич, – мягко заговорил Модзалевский: – не сердитесь на меня, но я скажу вам прямо и откровенно: нам надо на время разъехаться… Пока все не уляжется. Вы видите, как трудно нам стало ладить друг с другом… Я конечно понимаю, что всё это происходит из-за того, что все мы сильно расстроены. Но, чтобы не портить отношения до конца, нам нужно отдохнуть друг от друга. Я не могу никуда уехать, а вы можете… Вы даже обязаны уехать: у вас казенная командировка.
Лукомский выпрямился во весь рост и сделал оскорбленное лицо.
– Я очень сожалею, – глухо произнес он: – что довел дело до того, что меня выдворяют… Разумеется, мне давно нужно было бы покинуть ваш дом…
– Нет, ну серьезно, с вами невозможно разговаривать! – стал опять терять терпение Модзалевский: – кто вас выдворяет? Зачем такие слова? Я же вам говорю, что нам надо разъехаться временно. Временно, понимаете? Иначе мы изведем друг друга… Сейчас наша с вами совместная жизнь это одно мучение. Но пройдет время, все изменится, сгладится вот увидите. Поймите, для всех это будет правильно.
– Благодарю вас за ценный совет! Вы совершенно правы. И я был бы очень рад немедленно же освободить вас от своего присутствия…
– Господи! Да что вы опять такое говорите? – раздраженно перебил его Модзалевский, но Лукомский продолжил:
– Но, к сожалению, имеются обстоятельства, мешающие мне немедленно удовлетворить ваше желание. Во-первых, у меня еще не готов заграничный паспорт, что впрочем не мешает мне поселится в гостинице до его получения. А, во-вторых – и это самое главное – мой сын.
– Что ваш сын?
– Если я вас покину, то я не могу оставить у вас своего ребенка. А перевести его сейчас в другую обстановку я, к сожалению, не могу. Прошу меня простить, что я не позаботился об этом раньше.
– Позвольте! – воскликнул Модзалевский: – что вы такое говорите? Ведь вы же сами согласились оставить Сашеньку у нас.
– Да… Но тогда было другое дело. Тогда я был мужем вашей дочери, и как-никак, близким вам человеком… И тогда вы еще не предлагали мне под разными деликатными соусами прекратить эту близость…
Модзалевского взорвало. Всякий раз когда он (как, например, сейчас) приходил в ярость, у него как-то на голове самим собой вставали дымом седые волосы, а очки начинали сваливаться с близоруких глаз. И при этом его невысокая, сутулая фигура становилась выше и величественней.
– Вы не человек! – закричал он тонким голосом, махая очками дрожащими руками: – Вы машина! У вас нет сердца! Вы не можете понять самых простых, самых обыкновенных человеческих слов и перерабатываете их в какую-то гадость! Вы везде и во всем видите какой-то скрытый замысел! И никакими силами нельзя вам втолковать, что с вами говорят вполне искренно. Я же вам сказал, что разъехаться нужно временно, пока все не успокоится… Но если уже вы всё понимаете шиворот навыворот, то мне остается только одно: просить не покидать нас не на одну минуту, бросить все ваши чертовы командировки, мучить себя и нас и окончательно испортить все отношения между нами.
– Николай Павлович, прекратите эту театральщину и издевательства надо мной. – небрежным тоном произнес зять.
– Издевательства? – кричал Модзалевский: – кто над кем еще издевается, вы и издеваетесь!
Он махнул рукой и, весь красный, вспотевший и злой, вышел быстрым шагом из комнаты зятя.
– Что такое? – спросила его встревоженная Елизавета Сергеевна.
– Нет, это невозможно! – плачущем голосом говорил старик: – Ну, и черт с ним! Пусть живет здесь… Что я могу ещё сделать с ним?
Позднее, немного успокоившись, он передал жене содержание своего разговора с зятем.
– Так он уезжает или не уезжает? Я ничего не понимаю, – заметила Елизавета Сергеевна.
Модзалевский широко развел руками.
– Он хочет дать нам понять, что если, мол, он уедет, так уж едет совсем, и что между нами все порвано, и что мы его выгнали. Словом, если он уезжает, то это скандал, позорище и смертельное оскорбление ему…
Николай Павлович от волнения, словно зверь в клетке, несколько раз прошелся по комнате.
– И беда не в том, – продолжил он: – что из-за паспорта или по другой причине он проживет у на еще неизвестно сколько дней, а беда в том, что при таких его взглядах мы, пожалуй, и сами будет просить его остаться. Потому что мы не хотим скандалов и позорищ… Да к тому же еще эта его болтовня на счет Саши.
Старики долго еще не могли успокоится и, заперевшись в своей комнате, до глубокой ночи рассуждали об ужасном зяте и о невозможности отделаться от него.
Лукомский, по уходу Модзалевского, в первый момент хотел бросится за ним вслед и во всеуслышание – так чтобы вся прислуга слышала – объявить: «Я не на минуту больше не задержусь в вашем доме!» – и в самом деле тут же собрать вещи и уйти в гостиницу. Но свойственная этому чопорному и холодному человеку выдержка удержала его от этой выходки.
– Нет! Это уже слишком! – бормотал он, нервно шагая из угла в угол: – это уже чересчур! За кого они, в самом деле, меня держат?
Тесть, в сущности, и раньше закидывал удочку насчет командировки и насчет того, что было бы лучше Даниилу Валерьевичу уехать. Но еще никогда, как казалось сейчас Лукомскому, он не делал этих закидываний в такой прямой и обидной форме, как сегодня.
Он нервно бродил по комнате и обдумывал, как же ему теперь поступить? Разумеется, правильней всего, достойно это немедленно уйти и порвать все отношения с этими неделикатными людьми. Но уйти – это значит уйти совсем и, стало быть, забрать ребенка. А куда пристроить этого ребенка, этого сына, к которому Лукомский не чувствовал никакой привязанности, но который принес с собой, на свет божий, новый авторитет для Лукомского – авторитет отцовский. Этот, как и все другие авторитеты Лукомского, нуждался в поддержки и охране, и поэтому невозможно было игнорировать сына, но приходилось много соображать, по поводу его дальнейшего существования.
Со временем, не торопясь, обдумав как следует, конечно, можно было бы пристроить сына куда-нибудь приличным образом. Но сейчас, завтра, послезавтра – сделать это было невозможно.
«Может быть, он извинится завтра передо мной и все это сгладится? – вдруг пришла Лукомскому в голову мысль: – а иначе как быть? Не глотать же бесконечно все эти оскорбления?»
Для того, что бы хоть немного успокоится и отвлечься, он снова принился за поиски портрета. Но вместо успокоения это занятие принесло новые раздражения.
Он перерыл все ящики комода, весь письменный стол, все бумаги и брошюры, которые лежали на этажерке, но портрета нигде не было. А между тем Лукомский ясно помнил, что еще два дня назад портрет лежал на комоде.
Сегодня ему пришло в голову заказать сделать с него увеличение в изящной черной рамке с креплениями. Ему казалось, что это будет очень прилично и вполне подходяще его новому статусу. Статусу вдовца.
«Куда он мог деваться? – думал он, раздраженно ходя по комнате большими шагами: – что это за возмутительные порядки? Мои вещи пропадают из моей собственной комнаты! Кто же здесь без меня хозяйничал? Или я уже не хозяин даже здесь?»
Измученный и раздраженный, он улегся спать, но уснуть не мог. Несколько раз, в течении ночи, он вставал, пытался работать, читать, обдумывать свое положение, искать еще раз портрет – но ничего не получалось. Мысли в его голове никак не могли собраться воедино, а в сердце закипало и росла острая неприязнь к «неделикатным и нетактичным людям».
На следующий день у него произошла новая ссора с Модзалевскими, потом еще и еще – и отношения с ними, с каждым новым днем, становились все хуже и хуже.
Глава третья
Иван Иваныч Чакветадзе получил жалование и отправился «кутить» на стоявший у пристани пароход.
Грузин-бухгалтер свято исполнял этот обычай каждый месяц. Но так как он был человек очень воздержный и скромный, а еще и не пил вина, то кутежи у него были довольно своеобразные.
Он позвал своего помощника Сухомлина и передал ему инструкции, как и что делать без него, а сам надел красный парадный бешмет с крупными черными пуговицами, чистую черную сорочку и новую, кристально белую, кавказскую папаху. И, напустив на себя важности, торжественно отправился в рубку первого класса.
– Здравствуйте, Иван Иваныч! – кланялись ему знакомые официанты, радостно улыбаясь.
– Здравствуй! – величественно кивнул он: – который из вас самый проворный? Ко мне иди! Служить мне будешь, буду гонять тебя так сильно, что заморю на работе.
– Не заморите, Иван Иваныч! Вы человек хороший, обходительный, щедрый.
В рубке Чакветадзе уселся за отдельный стол в углу, и напустив еще больше важности, произнес:
– Ну, значит, меню мне давай.
Официант подал меню, и Чакветадзе стал внимательно изучать его.
– Осетрина у вас свежая?
– Помилуйте, Иван Иваныч… Из Астрахани идем-с.
– И севрюжка тоже?
– И севрюжка. И вообще любая рыба на пароходе: стерлядь, судак, налим…
– А из дичи есть что-нибудь подходящее для меня?
– Куропатка есть, тетерев, утка…
– Ага… так… тогда будь добр подай мне салат из рыбы… Да чтобы зеленого горошку побольше, солений разных, да и грибков еще можно.
– Слушаю-с, Иван Иваныч!
– А после подай мне пожарскую котлету из дичи… И потом пломбир с фруктами… Два пломбира с фруктами.
– Слушаю-с…
– Постой постой! Погоди, знаешь, что сделай: сначала пломбира мне подай, хорошо? А уже потом рыбу и котлетку…
– Понял вас, сию минуту!
– Нет, постой!… Смотри, пожалуйста, а ты действительно проворный!… Ты погоди. Возьми свой карандашик с бумагой и ещё запиши… Взял? Записываешь? Так… еще мне порцию черной икры, это между делом, потом сыру мне… швейцарского, а затем чашечку бульона куриного. Вот… Смотри не упусти ничего!
– А из вин, что прикажите?
– А из вин подай мне фруктовой воды – грушевой и черносмородиновой. А потом можно и чая… с вареньем и печеньем.
Иван Иваныч страстно любил чай со сладостями и мог пить его помногу и подолгу. Про него ходил один миф, что во время пожара в его доме, который случился несколько лет назад, Иван Иваныч едва не сгорел из-за чая. Он пил чай, когда к нему прибежали и сказали, что его дом загорелся. «Мало ли что там горит! – возразил он: – не видишь я чай пью!». Немного погодя, опять прибегают: – «Иван Иваныч, лестница горит! Бегите!» – «Смотри, пожалуйста, не буду я бежать! Дайте чай допить!» Наконец только когда пламя ворвалось в комнату, Иван Иваныч схватил самовар и кое-как, через окно, выбрался наружу. Но чай все таки допил.
– Ну-с, теперь все, – объявил он официанту: – действуй! Ах да, передай еще капитану: – мол, Иван Иваныч, угощает. Просил пожаловать, если время имеется.
Спустя минут двадцать, Чакветадзе находился уже в самом разгаре пиршества. Перед ним стояли бутылки с разноцветной жидкостью, сковородки с горячей едой, разные салатницы, тарелки… Его темное скуластое лицо еще больше потемнело от удовольствия и жара. В рубке было почти пусто. Кроме него, сидело по углам всего два-три пассажира: Иван Иваныч скучал без компании и ждал кого-нибудь из своих.
И компания не заставила себя ждать. Грузина настолько все любили, что он не мог остаться в одиночестве.
Прежде всего в рубку заглянул капитан.
– Иван Иваныч! Мое почтение! – весело воскликнул он: – Пиршествуете? Приятного аппетита!
– Спасибо! Сюда иди! Вместе кушать будем! – пригласил его грузин.
– Да ведь ты ерунду кушаешь, Иван Иваныч! – смеялся капитан подсаживаясь: – я и рад бы тебе компанию составить, да душа не принимает сладкой водички. И чего ты вина не пьешь? Какой ты, прости господи, грузин после этого? Ты кстати знаешь, что Волга пьяных любит? Вот Волга пьяных не топит, а трезвых топит…
– Ну, ладно тебе! Для тебя сейчас велю вина подать… иль водочки прикажешь? Пей на здоровье, а я свою «сладкую водичку» попью. Хорошо?
– А не противно? Если вино то рядом будет стоять?
– Мне то что? Пускай стоит.
Вскоре к пирующим присоединились, помощник капитана, машинист и еще двое знакомых Чакветадзе. На столе появилось вино, водка, пиво, а также чай. Чакветадзе пил стакан за стаканом, как будто ровно перед этим ничего не ел и не пил, и заедал всё печеньем и вареньем. Лицо его покрылось капельками пота, глаза сияли, а папаха съехала на бок. Он громко пел, громко говорил, громко смеялся и гораздо больше производил впечатление подвыпившего, чем его сотрапезники, пившие горячительные напитки.
При подобной обстановке протекали все кутежи Чакветадзе, и нередко число пирующих увеличивалось до таких размеров, что приходилось перебираться за стол больше. И вплоть до первого свистка эта дружная компания заседала в рубке, ведя самые приятные для Чакветадзе разговоры: о пароходах и пароходных делах.
Иван Иваныч был живой легендой всего волжского пароходства. Он знал не только каждый пароход «в лицо» и «по голосу», но и знал всю его историю: где он построен, в каком году спущен на воду, когда последний раз меняли котлы, с кем сталкивался, знал все поломки и т. д. Он был коротко, по дружески, знаком с каждым капитаном. Начиная с местных и приглашенных со стороны иностранцев, заканчивая военными флотскими офицерами. Среди них были у Чакветадзе и любимцы, с которыми он был особенно рад встречаться и проводить время, и знакомством с которыми он очень гордился. Самым любимым из них у него был капитан Ткаченко. Чакветадзе ярко и образно изображал перед своей аудиторией, как этот знаменитый капитан, гоняясь с другим пароходом, сжег, из-за нехватки дров, груз свиного сала. Рассказывал с какой легендарной скоростью ходил под его управлением пароход «Вещий Олег», и как не воздержан был Ткаченко на язык: когда пароход садился на мель, он, зная свою слабость, предусмотрительно обращался к пассажиркам: – «Сударыни! Сейчас я буду грубо выражаться. Не угодно ли вам спустится вниз»…
– И смотри, пожалуйста, как он любил свой пароход! – всегда прибавлял грузин: – ни на какой другой пароход переходить не желал. Его звали на «Анастасию», на «Поспешный». Нет, остался на проверенном «Вещем Олеге»… Не то что нынешние капитаны: сегодня на одном, завтра на другом… Пароход свой путем разглядеть не успеют, а уже на другом. Ткаченко знал свой пароход! Каждый гвоздик на нем знал… А когда «Вещего Олега» модернизировали и полностью перестроили, дав ему новое имя «Анна». Он обиделся: «Это не мой пароход! Не хочу и не буду на нем ходить!» – и ушел. Да, вот такой он капитан Ткаченко, остался верным другом «Вещему Олегу» и не предал его.
Иногда шутки ради, чтобы подзадорить Чакветадзе, собеседники принимались хвалить пароходы конкурирующей компании. Тогда грузин приходил в шумное возбуждение.
– Что ты мне такое говоришь, скажи, пожалуйста! – кричал он, ударяя себя в грудь смотря бешеным взглядом на собеседника: – «Юрий Долгорукий» хороший пароход? Ты верно с ума сошел? «Юрий Долгорукий» построен в 1862 году, а котлы в последний раз на нем меняли в 80-м! У него машинное отделение все черное, как ночь, не одного светлого пятна. Это старая, гнилая дрянь! А обстановка? Ха! Видел ты обстановку «Юрия Долгорукого»? Дешевка! Еще и ненадежная! А, ты не видел, тогда молчи, пожалуйста, если не видел!
– А видал ли ты, Иван Иваныч, «Светлану» после ремонта? – хладнокровно говорил собеседник, перемигиваясь с соседями: – вся блестит, сверкает, стены в рубке оклеили тисненым деревом… Просто шик!
– Ну ты скажешь дорогой! После ремонта… – вопил Чакветадзе – знаем мы их ремонт! Вывеску покрасили да свисток новый приделали! И вот, скажи, пожалуйста, вот откуда ты взял тисненое дерево? Никакого тисненого дерева там нет! Трехлетняя старая клеенка облезлая… Тьфу, срам! «Светлана» как была дырявым корытом, так им и осталась!
– Ну, может быть, я его с кем-то спутал… – кротко соглашался собеседник.
– Ой, пароходы он путает, а еще капитан называется! – накидывался на него возбужденный грузин.
– Ну, ладно тебе, – смеялись остальные: – Иван Иваныч, не серчай.
На это раз пиршество Чакветадзе однако прервалось самым неожиданным образом.



