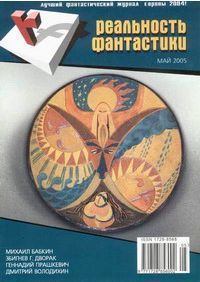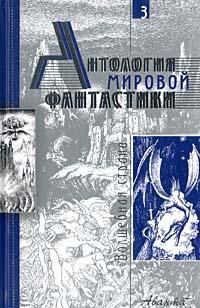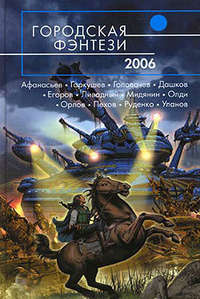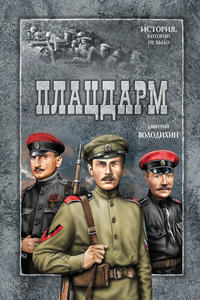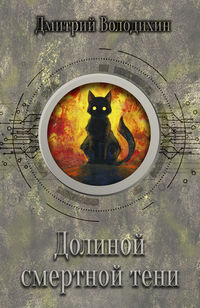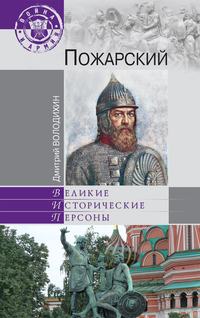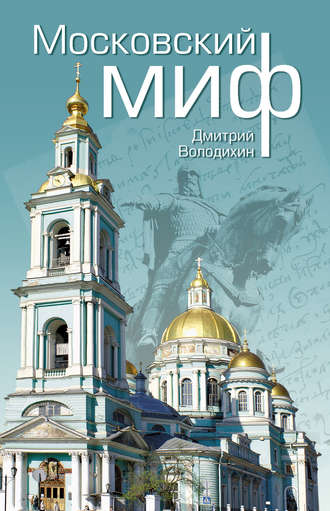
Полная версия
Московский миф
Самое знаменитое «зеркало», в которое смотрелась тогда Москва, родилось из нескольких строк.
В 1492 году пересчитывалась Пасхалия на новую, восьмую тысячу лет православного летоисчисления от Сотворения мира. Разъясняющий комментарий митрополита Зосимы сопровождал это важное дело. Там об Иване III говорилось как о новом царе Константине, правящем в новом Константинове граде – Москве…
Вот первая искра.
Большое же пламя вспыхнуло в переписке старца псковского Елеазарова монастыря Филофея с государем Василием III и дьяком Мисюрем Мунехиным. Филофеем была высказана концепция Москвы как Третьего Рима. Русский ум воспринял ее с ленцой. И лишь по истечении продолжительного времени его растревожил смысл новой идеи. Надо помнить и понимать: она отнюдь не имела господства над мыслями тогдашнего «образованного класса» и очень долго обреталась на периферии.
Филофей рассматривал Москву как центр мирового христианства, единственное место, где оно сохранилось в чистом, незамутненном виде. Два прежних его центра – Рим и Константинополь (Второй Рим) – пали из-за вероотступничества. Филофей писал: «…все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином царстве нашего государя по пророческим книгам, то есть Ромейское царство, поскольку два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не быть». Иначе говоря, «Ромейское царство» – неразрушимо, оно просто переместилось на восток и ныне Россия – новая Римская империя. Василия III Филофей именует царем «христиан всей поднебесной». В этой новой чистоте России предстоит возвыситься, когда государи ее «урядят» страну, установив правление справедливое, милосердное, основанное на христианских заповедях. Но более всего Филофей беспокоится не о правах московских правителей на политическое первенство во вселенной христианства, а о сохранении веры в неиспорченном виде, в сбережении последнего средоточия истинного христианства. Его «неразрушимое Ромейское царство» – скорее духовная сущность, нежели государство в привычном значении слова. Роль московского государя в этом контексте – в первую очередь роль хранителя веры. Справятся ли они со столь тяжкой задачей?
По словам историка средневековой русской литературы А. М. Ранчина, у Филофея «…Москва является последним Римом, потому что приблизились последние времена, в преддверии которых число приверженцев истинной веры, согласно Откровению святого Иоанна Богослова, уменьшится. Именно поэтому эстафета передачи метаисторического Ромейского царства уже завершена. Но неизвестно, удастся ли и Москве – Третьему Риму исполнить свою миссию, свое оправдание перед Богом». Филофей, таким образом, вовсе не поет торжественных гимнов молодой державе, он полон тревоги: такая ответственность свалилась на Москву!
Идея Москвы как Третьего Рима долго не получала широкого распространения. Слова, сказанные в «Русском Хронографе», завоевали признание у русских «книжников» быстро и прочно. А вот рассуждения Филофея не имели равной известности.
Лишь во второй половине XVI века их начинают воспринимать как нечто глубоко родственное московскому государственному строю.
Так, они проникли в величественное сказание о борьбе Москвы с осколками Орды – «Историю о Казанском царстве».
Когда повествователь доходит до победы, одержанной Москвою на Угре, и до запустения Большой Орды, он поет хвалу великому городу, связывая его с иными древними столицами христианских держав. «И тогда великая наша Русская земля освободилась от ярма… и начала обновляться, как бы от зимы на тихую весну прилагаться. И взошла вновь к древнему своему величию и доброте, и благолепию. Как прежде, при великом князе при Владимире преславном, дал ей премилостивый Христос расти как младенцу и увеличиваться, и расширяться и скоро прийти в возраст совершеннолетия… И воссиял ныне стольный преславный град Москва, второй Киев. Не усрамлюсь… назвать ее и Третий новый великий Рим. Просияв в последние лета яко великое солнце в великой нашей Русской земле, во всех градех… и во всех людех страны сея, красуйся и просвещайся святыми многими церквами… яко… небо светится пестрыми звездами, утвержденный православием незыблемо от злых еретиков, возмущающих Церковь Божию!»
При утверждении в Москве патриаршества была составлена «Уложенная грамота». Писавшие ее московские книжники вложили в уста патриарха Иеремии похвалу царю Федору Ивановичу: «Твое… благочестивый царю, Великое Российское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде, и вся благочестивое царствие в твое воедино собрася, и ты един под небесем христьянский царь именуешись во всей вселенной, во всех христианех…»
Конечно, и сам Иеремия, и всё греческое священноначалие Православного Востока едва-едва познакомилось с московской историософией; вряд ли они разделяли такой взгляд на Москву и Россию; но, во всяком случае, наши интеллектуалы приписали греку идею Москвы – Третьего Рима как нечто само собой разумеющееся.
7Выше говорилось о «веере» идей.
Вот еще одна его «лопасть».
В допетровской России любили сравнивать Москву с Иерусалимом. Русские книжники и русские власти были твердо уверены: новая русская столица переняла особенную божественную благодать от Иерусалима, который был ею прежде щедро наделен, но впоследствии утратил. Теперь Москва – город городов, огромная чаша, где плещется эта благодать.
Историк искусства А. М. Лидов весьма точно выразился по этому поводу: «Идея о схождении Горнего града, в котором праведники обретут вечную жизнь и спасение, присутствует и в иудаизме, и в исламе. Однако в христианстве она приобрела совершенно особое, исключительно важное звучание – это в некотором смысле основа христианского сознания: обетование и ожидание Нового Иерусалима как конец пути и обретение счастья, гармонии, торжества справедливости. С этой идеей связана традиция перенесения образов Святой земли, попытки воспроизвести то особое сакральное пространство, в котором должно произойти сошествие Небесного града».
Так вот, в Москве желали уподобления Иерусалиму идеальному, образу Небесного Града, запечатленному в Иерусалиме «ветхом», историческом, но лишенному там должного вероисповедного наполнения. Достигнув такого уподобления, став совершенной христианской державой, Россия с Москвой в сердце слилась бы, по представлениям книжников того времени, с небесным прообразом Иерусалима.
Москву уподобляют Иерусалиму в летописях XV века. Святому Петру-митрополиту приписывают пророчество, согласно которому Москва в будущем «наречется Вторым Иерусалимом».
Но чаще всего Москву ведут по пути воиерусалимливания усилия зодчих.
Так, в середине XVI века Кремль украсился храмом Воскресения Христова со звонницей. Церкви дали имя центральной иерусалимской святыни для христиан[9].
Образ «Второго Иерусалима», города со множеством светлых храмов, отразился в особенном, необычном облике Троицкого храма что на рву – его позднее называли Покровским собором и собором Василия Блаженного.
На рубеже XVI и XVII веков Борис Годунов задумал уподобить Московский Кремль Иерусалиму. Он указал возвести православную «Святая святых», иначе говоря, русский храм Гроба Господня – как во Святой земле. Началось строительство; но смерть царя остановила воплощение дивного замысла, а разгорающийся пожар Смуты лишил его малейшей возможности счастливо завершиться.
В середине XVII столетия патриарх Никон выстроил под Москвой величественный Новоиерусалимский монастырь, все главные постройки которого символизируют места и здания в Иерусалиме-первом, связанные с евангельской историей.
Прежде всего, Никон начал возводить подобие Иерусалимского храма Гроба Господня, или, иначе, храма Воскресения Господня. Каждая постройка, каждая деталь оформления новой обители соответствовали реалиям пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме и расположению иерусалимских святынь – как его представляли себе в России XVII столетия. В соборе воспроизведены священные подобия горы Голгофы, «пещеры» Гроба Господня, места трехдневного погребения и Воскресения Христа. Новоиерусалимский Воскресенский собор строился по разборной модели храма Гроба Господня из кипариса, слоновой кости и перламутра. Ее доставил в Москву патриарх Иерусалимский Паисий. А иеромонах Арсений специально произвел обмеры храма в Иерусалиме. Однако Новоиерусалимская церковь отнюдь не стала точной копией храма Гроба Господня. Она не являлась таковой даже в планах. В конце концов храм Гроба Господня представляет собой хаотичное наслоение разновременных зданий и пристроек. Возводя свою «версию», наши зодчие приспосабливали архитектурные формы всемирно известной постройки к русским обычаям, улучшали, модернизировали, добивались единства стиля. Подмосковный собор должен был выглядеть лучше «протографа». И в эстетическом смысле он действительно превосходит свой образец.
Вся местность вокруг обители наполнилась евангельской символикой. Холм, на котором воздвигали собор, назвали Сионом, а соседние холмы – Елеоном и Фавором. Ближайшие села обрели названия Назарет и Капернаум. Даже подмосковная речка Истра – там, где она протекала по монастырским владениям, – стала именоваться Иорданом. А ручей, обтекающий монастырский холм, превратился в Кедронский поток.
В создании Новоиерусалимской обители отразилась идея, близкая московским интеллектуалам еще с рубежа XV–XVI столетий, со времен Ивана III: действительная сила Православного мира постепенно уходит от греческого священноначалия и сосредоточивается в Москве.
Многочисленные греческие патриархи, митрополиты и прочие архиереи обладают превосходными библиотеками, умирающей, но все еще сносной системой училищ и большим духовным авторитетом. Однако они пребывают под гнетом турок-османов, поддаются влиянию Римско-католической церкви, они просто очень бедны, наконец. А Москва богата и независима. Москва спасает греческих архиереев и греческие монастыри от нищеты. Центр православного мира должен переместиться сюда! Соответственная «великая идея», или, вернее, целая интеллектуальная программа, получила выражение в камне.
Новый Иерусалим под Москвой – символический перенос духовного центра православия на новое место. Он словно извещал весь Православный Восток: благодать отошла от древних городов и ныне почиет на землях московских.
8Имелся во всей этой историософии один изъян.
Русский паломник шел в Царьград или на Святую землю, томимый жаждой облобызать древние святыни, помолиться у чудотворных икон, отстоять службы в храмах, которые старше самой Руси. Тамошние власти его интересовали очень мало. Что такое император византийский в конце XIV века? Фигура слабая, небогатая, великому князю московскому не чета. А уж для XV века и сравнения быть не может! Слишком оно, это сравнение, окажется не в пользу рассеивающегося цареградского миража. Но вот святыни – это серьезно. Их сила и слава не ослабевают.
В понимании нашего церковного мудреца, Москва как новый Рим или новый Иерусалим должна была превратиться в такое же скопище святынь, как столица василевсов и столица древнего Израиля. Станет она такою – чего ж еще желать? Теперь и ездить не надо в такую даль – всё будет под боком!
Подобное понимание в каком-то смысле абсурдно. Нынешний Лондон становится известен большинству российских школьников по знаменитому учебному тексту, где сказано, что сей город – The Capital of The Great Britain, – средоточие «контрастов» и обиталище Тауэра, Биг-Бена, Трафальгарской площади. Допустим, кто-то назовет Москву «новым Лондоном». Сам того не понимая, он попытается произвести в умах миллионов людей, когда-то проходивших оный текст, странную метаморфозу. «А что, Тауэр и Биг-Бен к нам тоже перенесут?»
Умы сопротивляются…
Вот и в XVI веке коллективный разум русского интеллектуалитета, как видно, гордясь новой ролью Москвы, отчего-то… противился ей. Третий Рим? Второй Иерусалим? Отчего ж, красиво! Но как-то… не на первом месте.
9В 1560-х годах возникает грандиозный памятник богословско-исторической мысли – Степенная книга. Там русская история изложена по «граням» (степеням) «царского родословия» – от правителя к правителю. Россия показана как Новый Израиль, а подданные московского государя как народ богоизбранный, который когда-нибудь освободит Константинополь, низвергнув силу ислама.
Степенная книга – венец размышления Москвы о себе. То, что в ней сказано, определит будущий московский миф надолго. Известно полторы сотни рукописных копий ее! Это при поистине титаническом объеме… Степенную книгу почитали в допетровской России. Ее, конечно, дописывали, развивали, кое в чем исправляли, но прежде всего – именно почитали, обращались к ней как к истине, соединившей правду веры и правду действительных исторических событий.
Что в ней такое Москва?
Прежде всего, оплот царственности.
Церковные интеллектуалы, составлявшие Степенную книгу, четко провели идею «трансляции царства». Иными словами, перехода с течением времени центра русской державности от одного города к другому. В самом начале эта идея высказана с полной ясностью: «От Рюрика начася державство в Новеграде. От Игоря же сына его – в Киеве и до Всеволода Юрьевича державствоваху; от них же вси страны трепетаху, ближнии и дальнии; и сами гречестии царие вси повиновахуся им; Угрове и Чахи, и Ляхи, и Ятвяги, и Литва, и Немцы, и Чюдь, и Корела, и Устюг, и обои Болгары, Буртасы и Черкассы, Мордва и Черемиса, и сами Половцы дань даяху и мосты мостяху; Литва же тогда бояхуся и из лесов выницати… От Всеволода же Юрьевича и до Данила Александровича в Владимери державствоваху. От Данила же на Москве Богом утверждено бысть царствие русских государей».
Москва как крепость – дитя Суздаля. Она стояла на страже Суздальской земли, она облеклась в одеяние из прочных стен и высоких башен по воле Юрия Долгорукого, государя суздальского. Но Москва как царственный город, как Порфирогенита – дочь Владимира и от него приняла венец державного первенства.
Степенная книга с большим разбором называет кое-кого из правителей Руси «самодержцами»: Владимира Святого – да, Всеволода Ярославича – да, Святослава Ярославича – нет, Святополка Изяславича – нет, Юрия Долгорукого – нет. А вот его отца Владимира Мономаха – да. И, далее, после Юрия Долгорукого, – самых достойных из рода Владимира Мономаха, к коему принадлежал, кстати, и Московский княжеский дом.
Всеволода Большое Гнездо Степенная книга твердо именует «самодержцем всей Русской земли». Он правит «скипетром Русского царствия». Он завещает наследникам «Владимирское скипетродержавие». Но уже и об Андрее Боголюбском сказано, что он самодержавствовал «…в Суждальской земле, в преименитом граде Владимире».
Даниил Московский, родоначальник московского княжеского семейства, предстает как человек, избранный Богом для особого служения. «Сего блаженного великого князя Данила храняй Господь от пелен матерних… Сего блаженного Данила избра Бог и возрасти и снабде нератуема ни от кого же; ему же и поручено бысть в наследие богоснабдимое державство преименитого града Москвы, его же и праведное семя возлюби Бог и прослави, наипаче же благоволи царствовати в роды и роды».
А великого князя Василия III Степенная книга прямо именует «царем». Хотя и иносказательно, как «царя над страстями», но все же именно царя, – пусть формально, по титулу, пока еще великого князя.
Чего же больше в Степенной книге? Глядясь в зеркала истории, видит ли Москва себя в одеяниях «Третьего Рима»? Или, может быть, «Второго Иерусалима»?
По капельке в Степенной книге можно отыскать и то, и другое. Но над всеми этими «капельками» преобладает ливень совершенно другого мифа. А именно того, который уходил корнями в древнерусскую реальность, а не в византийскую. Родное возобладало.
Что такое Новгород Великий? Дом святой Софии.
Что такое Псков? Дом святой Троицы.
Что такое Тверь? Дом Спасителя.
В эпоху удельной старины всякая земля выбирала себе небесное покровительство и выражала его в освящении главного храма всей области. А потом держалась за это покровительство с необыкновенной цепкостью.
К Москве «царственность» перешла от Владимира. А Владимир имел небесной покровительницей Пречистую Богородицу. Степенная книга проводит эту мысль без малейшего сомнения, без малейшей оговорки. Собственно, вся «царственность» самого Владимира началась с «путешествия» Пречистой из Киевской земли в дальний лесной край, на Клязьму. После рассказа о смерти Юрия Долгорукого и о последовавшей за нею междоусобной борьбе за Киев сказано: «Начало Владимирского самодержавства: уже тогда киевские великие князи подручни были владимирским самодержцам. Во град ибо Владимир тогда начальство утвержашеся пришествием чюдотворного образа Богоматери. С ним же прииде из Вышеграда великий князь Андрей Георгиевич и державствова». Андрей Боголюбский действительно привез с Киевщины чудотворную икону Богородицы. Для московского «книжника» середины XVI века ясно без комментариев: с иконой-то утекла оттуда и вся державная сила. Ушедшая икона явилась знаком возобладания Севера над Югом.
Для Москвы времен Ивана Калиты покровительство Пречистой – дело очевидное. Оно связано с личностью св. Петра-митрополита. Святитель когда-то, задолго до восхождения на степень главы Русской церкви, написал образ Богородицы и удостоился особых милостей от Нее.
Да и похоронен Петр в храме Успения Пречистой, т. е. в месте, которое освящено во имя его небесной покровительницы. О строительстве храма он сам попросил Ивана Калиту: «Если меня, сыну, послушаешь и храм Пречистой Богородицы воздвигнешь во своем граде, и сам прославишься паче иных князей, и сыновья твои, и внуки из поколения в поколение. И град прославлен будет во всех градах русских, и святители поживут в нем, и взыдут руки его на плеща враг его, и прославится Бог в нем».
Чего ж яснее?
Главный храм Москвы, а вместе с тем и всей области Московской, – Успенский, тот, что возник на древнем Боровицком холме. А значит, Москва – Дом Пречистой.
Русский хронограф за полстолетия до Степенной книги объявил об этом небесном покровительстве. Составители же Степенной книги развили идею Досифея Топоркова до совершенства. Они множили и множили примеры нерасторжимой связи между Царицей Небесной и царственным градом. Для читателя эта связь подана как нечто само собой разумеющееся.
В 1380 году Дмитрий Иванович, собираясь на Мамая, долго молится именно Пречистой, у нее просит помощи даже более, чем у самого Господа. Проходя через Коломну, он опять возносит моления в Богородичной церкви.
В 1395 году именно заступничество Пречистой, произошедшее через ее чудотворную икону, привезенную в Москву, воспринималось как причина скорого ухода Тамерлановых орд из страны. Степенная книга прямо сообщает: Богородица «устрашила» завоевателя и тем дала «избавление» Руси от его нашествия.
Время Василия I вообще наполнено постоянным «диалогом» со святой заступницей.
Под 1403 или 1404 годом летописи сообщают о небесном знамении – троении солнечного диска. Оттуда известие перекочевало в Степенную книгу. Четырьмя годами позднее в Москве замечают чудесное исхождение мира от Богородичной иконы, доставленной митрополитом Пименом из Константинополя. В Степенной книге делается вывод: «Это Всесильный Бог Своею… божественною святынею и многими чудесными знаменьми всюду прославляя Свое Трисвятое имя Отца и Сына, и Святого Духа, наипаче же снабдевая Свое святое избранное достояние великия державы, иже на Москве всего Росийскаго царствия (курсив мой. – Д. В.), в нем же утверждая непоколебимо истинное благочестие и всяческих еретических смущений невредимо соблюдая и от находящих врагов всячески защищая и от всяких бед милосердно избавляя и на супротивныя победы даруя». Еще шесть лет спустя в Можайске был обретен чудотворный образ Богородицы Колоцкой. Чуть ранее на Пахре Богородичная икона источила кровь…
В 1480 году, после победоносного «Стояния на Угре», Москва устанавливает ежегодный крестный ход на 23 июня – во имя Пречистой Богородицы и в благодарение Ей.
Весной 1547 года Москва терпит страшный урон от большого пожара. Когда Владимирскую икону Пречистой пытаются вынести из Успенского собора, она не двигается с места. Более того, она оказывает спасительное воздействие от бушующего пламени. Степенная книга объясняет: «Ибо сама Богомати сохраняя… и соблюдая не токмо Свой пресвятый образ и всю Церковь, но и всего мира покрывая и защищая от всякого зла».
Чрез иконы Пречистой Москве по всякий важный случай бывают знамения и чудеса; Богородица как будто водительствует своей землей…
Для образованного русского наших дней, если он придерживается русской же культурной почвы, мысли о Москве как «Третьем Риме» и «Втором Иерусалиме» драгоценны. Коренная, святая, хлебная, державная Русь пребывает в тесном родстве с ними. И в них же часто видят суть того восприятия Москвы самой себя, всей Россией, да и соседями, которое сформулировали наши «книжники».
Но нет, нет! Правды тут никакой. Эти идеи когда-то будоражили умы старомосковского общества. Они нравились то больше, то меньше, ими играли, их ценили, к ним относились с уважением. А всё же… первенство оставалось отнюдь не за ними.
Суть первого и самого сильного московского мифа совершенно другая. Москва прежде всего – Дом Пречистой Богородицы, а уж потом «Третий Рим» и далее по списку. Без Небесной Заступницы не было бы и не будет в Великом городе никакой «царственности». Всё – от Нее. Всё – через Нее. Прочее же – прекрасное умствование.
Образ Дома Пречистой порожден той раскаленной лавой иноческого подвижничества, которая разливалась по сосудам Московской Руси со времен Сергия. И ничего лучше, возвышеннее, правдивее этого до сих пор о Москве не сказано.
Путем покаяния. Москва в Смутное время
[10]
В XVI веке Москва приняла на себя прекрасное, но тяжкое бремя. Город получил имена Второго Иерусалима и Третьего Рима. В нем появился собственный царь и собственный патриарх. Над кремлевскими зубцами засиял невидимый венец столицы восточного христианства. К исходу века на русский престол сел монарх-чудотворец Федор Иванович.
Москва осознанно поднялась на немыслимую доселе высоту. И государи наши, и архиереи, и книжные люди понимали, сколь высокое предназначение выпало на долю города.
Громадный и обременительный дар царственной высоты на первых порах нашел для себя лишь одну подпорку – русскую государственную мощь. А этого явно недостаточно. Для того чтобы удержать его, требовались и благочестие, и смирение, и самоограничение, и христианское просвещение, и христианское нравственное очищение. Россия встала на этот путь, но первые шаги делала беззаботно и легкомысленно, не требуя от себя многого.
Подобная нетребовательность привела Москву со всею страной к чудовищному падению. Правящий класс России – «мужи брани и совета» – оказался слишком падким на соблазны, чтобы достойно стоять на такой высоте. Слишком легко поддавался он властолюбию и корысти. Слишком мало в нем оказалось способности смиренно служить государю и земле. Древние родовые традиции столкнулись с новой священной сутью государственного строя. А по неписаным законам мироустройства, чем больше упорствовала родовая знать в гордыне и самовольстве, тем более тяжкие испытания она навлекала на свою голову… а вместе с тем и на всю землю.
История бедствий, обрушившихся на Москву, имеет помимо материальной еще и мистическую сторону. Великий город видел, как наполнялась и как переполнилась чаша грехов. Как опрокинулась она. Как попытался наш народ наспех исправить дело. И сколь тяжелым, сколь жертвенным в конце концов оказался путь к покаянию, к «исправлению ума»…
Осенью 1604 года на земле Российской державы появился самозванец, назвавший себя царевичем Дмитрием Ивановичем. Настоящий царевич погиб за тринадцать лет до того. Смехотворные претензии ложного царского сына неожиданно запалили фитиль долгой и страшной войны.
Началась Смута.
Политический строй Московского государства обладал колоссальной прочностью и сопротивляемостью к внешним воздействиям. Но Смута начиналась изнутри. Самозванец, объявивший себя наследником русского государя, хотя и получал поддержку поляков, а все же ничего не сумел бы совершить в России, если бы не внутренняя трещина, легшая поперек государственного устройства.
Русская монархия на протяжении полутора веков пребывала в стабильном, устойчивом состоянии. Престол переходил от отца к сыну в династии Даниловичей – московском ответвлении древнего дома Рюриковичей. Механизм престолонаследия устоялся. Монаршая власть передавалась по праву крови, а ее священное значение Церковь закрепила обрядом венчания на царство.
И вдруг кровь… иссякла. В 1598 году умер государь Федор Иванович. Он пережил своего единственного ребенка – дочь Феодосию – и младшего брата, царевича Дмитрия.
На трон взошел государь Борис Федорович из старомосковского рода Годуновых, шурин Федора Ивановича. Его возвели на престол решением Земского собора, благословением патриарха Иова и волею державной сестры.