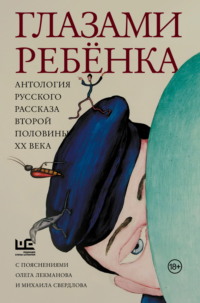Полная версия
Собрание сочинений. Арфа и бокс. Рассказы
Потому что я помню, как мы с вами пели, и хотел бы спеть еще. Песня – это великая сила, и мы непременно с вами споем. Как вы находите это дело?
Думающий о вас и тоскующий
Леопольд».Фу-ты… Фу-ты…
Вот что случилось однажды.
Я пришел тогда в удивленье. Может, в этом нет ничего такого, но как бы не так. Как сейчас, помню этот концерт. Трель за трелью звучал романс. И когда трель достигла вершины, кто-то крикнул. Крикнул так резко и так неожиданно, будто его кольнули. Никто не расслышал, что он крикнул. Это был крик не то «ой», не то «ай», не то «хей». Все повернулись в ту сторону. Он сидел в пятом ряду. Он клонил голову набок. И вроде бы спал. Глаза его были закрыты, а впрочем, может, и нет. Я точно не помню. Этот крик поразил весь зал. Никто никогда не кричит на концертах. И притом так громко. Я ни разу не слышал. Когда трель пошла вниз, он снова крикнул. Теперь я расслышал отчетливо. Он кричал «хей». Потом еще и еще и так много раз на весь зал. Все головы повернулись к нему. Трель на сцене сорвалась. К кричавшему подбежали.
– Что такое? – спросили его.
Он поднял голову и сказал:
– Ой, простите меня, фу-ты, фу-ты…
Будет суп
– Ты подожди меня здесь, – сказал мой брат, – а я сейчас.
Я остался стоять на лестнице в незнакомом мне доме. Потом мне надоело стоять на лестнице, и я поднялся наверх в коридор. Коридор был пуст. Я остановился у двери, слегка приоткрытой, и почему-то мне вдруг показалось, что брат зашел именно в эту дверь. То есть я был даже уверен в этом. Я постучал. Дверь открылась, и передо мной возник старикашка с кастрюлькой: у старика была белая борода. Он щурился – видимо, плохо видел, и ресницы у старика были белые тоже.
– Мой брат… – начал я.
– Вот вы, – быстро меня перебил старик, – пойдемте со мной… вот сюда… вот… в кухню…
Он зажег газовую плиту. Посмотрел на меня как-то сбоку (я стоял у дверей кухни) и налил в кастрюльку из крана воды.
– Будет суп, – объявил старик.
– Мой брат… – опять начал я.
– Просто к слову пришлось, – сказал старик. – Сейчас я буду резать лук. Вы не хотите со мной резать лук?
– Я не хочу резать лук, – сказал я.
– Вот зря, я вам дам нож…
– Зачем мне нож?
– Резать лук.
Он вытащил луковицу из кармана, аккуратно очистил, а кожуру преспокойно сжевал и съел.
– Не рекомендуют, а я все же ем…
– Я искал брата, – сказал я в нетерпении, – он куда-то зашел…
– У меня ваш брат, – сказал старик.
– У вас?
– Зайдите ко мне, я сейчас…
Я вошел в комнату старика. Брата там не было. Я хотел выйти, спросить старика, где же мой брат, когда его вовсе здесь нет. Я дернул дверь, но она не открылась. Видимо, я случайно защелкнул замок. Я сел на стул, оглядел комнату. На столе стоял живой гусь, привязанный за ноги к столу. Я удивился, как сразу его не заметил. В углу две теннисные ракетки. Портрет старухи в чепце. Вскорости кто-то дернул дверь.
– Я закрыт, – сказал я.
– У меня нет ключа, – сказал старик.
– Здесь нет брата! – крикнул я.
– Он на столе, – ответил старик.
– На столе гусь, – разозлился я.
– А ты не гусь? – спросил старик.
– Дурак! – крикнул я что было мочи.
Гусь заорал. Старик засмеялся.
– Ему нужно в суп, – сказал старик.
– Эй, – крикнул я, – открывайте!
Петлянье
Я не мог застать его дома. Он уходил из дома в пять утра. Старый больной человек уходил каждый день в пять утра. Куда он уходил, я не знал. Я подкараулил его в пять часов. Он как раз выходил из дома. Мне показалось, что он улыбался. Освещенный улыбкой, он прошел мимо. Я двинулся следом за ним. Он свернул за угол, прошел садик, вернулся в садик, свернул в переулок, потом в другой, потом в третий, потом обратно… Он явно петлял. Мне неясно было, зачем он петляет. Я петлял вместе с ним, чтобы выяснить это. Я все время смотрел ему в затылок. Я не видел его лица. Но я чувствовал: он петляет с улыбкой. Он сел в садике на скамейку. Я устроился сзади, в кустах. Он сидел, вероятно, час. Я глядел на его затылок. Потом он встал и опять стал петлять, и после третьей петли я уже не пошел за ним. Я решил подождать его. Он прошел мимо меня. Я наблюдал за ним сквозь кусты. Потом я испугался, что он уйдет, перестанет петлять, я его потеряю. Я возобновил петлянье.
Прошел еще час. Мы петляли. Я еле шел от усталости. Он же, напротив, шел очень бодро. Мне нестерпимо хотелось сесть. Вдруг он остановился. Взглянул на часы. Я подошел поближе. Открывали винный ларек.
– Сто пятьдесят, – сказал он твердо.
– И мне, – сказал я.
– О! – Он увидел меня. – И вы?!
– И я. – сказал я.
Каково
Он сидел в пятом углу.
– Каково вам? – спросил я.
– Никаково, – сказал он.
– Ну, а все-таки, каково? – спросил я.
– Никаково, – сказал он.
– Каково вам? – спросил я еще раз.
– Никаково, – сказал он, – мне никаково.
Фрулофф
– Я… Фрулофф Иннокентий Маевич… – шепчет Фрулофф Иннокентий Маевич.
– Заполняйте ваш бланк молча, – говорит заполняющий рядом, – вы мне мешаете заполнять.
– А вы, пожалуйста, локоть уберите, – говорит Иннокентий Маевич, – уберите-ка свой локоть со стола.
– Если я свой локоть уберу, – говорит заполняющий рядом, – как же я тогда писать буду?
– А если я шептать не буду, как же я тогда писать буду?
– Мне совсем неинтересно знать, что вы Фрулофф, – сказал Петров.
– А мне – что вы Петров, – сказал Фрулофф.
Он видел бланк Петрова.
Какой-то щупленький парнишка в маечке говорит:
– А может, он суфлер? Привык шептать, и все.
– Да, я суфлер, – сказал Фрулофф.
– Я, значит, угадал! – обрадовался парнишка.
Но никто не поверил. Суфлер! Так уж и суфлер! Что еще за суфлер? Быть не может. Так уж угадал!
Ну суфлер так суфлер. Ну, Фрулофф, мало ли… ну и бог с ним. Некоторые на него косились: суфлер не суфлер? А потом коситься перестали, раз не космонавт. И все же известного артиста даже чаще встретишь, чем суфлера. А тут этот Фрулофф… суфлер… А может, он заслуженный суфлер?
Петров косился на Фрулоффа, все косился – взял да пересел. Раз здесь нотариальная контора, а не опера. Сел на другое место.
Фрулофф бланк написал, очереди своей дождался и подал лист в окошко.
– Вы чего тут написали? – спросили из окошка.
– Я… Фрулофф, – начал было Фрулофф.
В конторе засмеялись.
– Ну, а дальше? – спросили из окошка.
И Фрулофф продолжал:
– Иннокентий Маевич…
– Да я не об этом, – сказали из окошка, – ну, а дальше-то, а дальше-то что вы написали? Вы все выдумали.
– Как это выдумал? Кто? Я?
– Не я же это писала. Не по форме у вас написано, понимаете? Да и вообще неясно.
– Как же так неясно? Я писал…
– Что вы написали, полюбуйтесь, – ерунду. Вот что вы написали: я, Фрулофф Иннокентий Маевич… суфлер…
– Два эф, – сказал Фрулофф. – В конце.
– «Суфлер» не надо, – продолжали из окошка. – Да будьте вы хоть кондитером или сапожником – это не имеет значения: понимаете? В данном случае это значения не имеет.
– Я? – спросил Фрулофф. Совсем уж невпопад.
– Да, да, не я же, вы! Дальше что вы написали, отдаете себе отчет? Пропустим… это же как можно! Ну что вы доверяете? Кому? Вы тут ничего не написали. Вон там под стеклом образцы, перепишите, и… У вас не по форме все.
– Как не по форме? Скажите, что неправильно, я перепишу, – сказал Фрулофф.
– Да у вас тут все неправильно. Буквально все.
– Как – все?
– Надо смотреть каждое слово, – сказали из окошка, – число сегодня какое? Идите и пишите. Хватит мне с вами. Взрослый человек. Я вам все объяснила. Все! Товарищи, помогите ему написать…
Кто-нибудь помогите, очень уже непонятливый человек попался.
Петров вдруг предложил:
– Не стоит друг на друга обижаться, право, товарищ Фрулофф. Давайте я вам напишу, если уж на то пошло.
Фрулофф долго смотрел на Петрова.
– На что пошло? – спросил Фрулофф.
– Действительно, непонятливый какой-то, а еще суфлер. Ну, что там у вас такое?
Фрулофф протянул бланк Петрову.
– Нужно взять новый бланк, – пояснил Петров, давайте я возьму.
– Я? – спросил Фрулофф.
– Ну, вы возьмите, все равно.
– Я не возьму, – сказал Фрулофф.
– Что вы хотите, не пойму? Да ну вас, ей-богу, в конце-то концов!
Петров стал раздражаться.
Парнишка в маечке сказал:
– Чего он, действительно, баламутит? Человек для него старается, а он баламутит.
Визгливо сказал, обращаясь ко всем. Но Фрулофф на него никакого внимания не обратил.
Парнишка суетился. Уговаривал:
– Напишут вам. По форме. Ну? Садитесь. Вот сюда. По форме все напишут. Ну?
Тогда Фрулофф повернулся и вышел из конторы. И тут вдруг Петров прочел, что было написано Фрулоффым. Петрова затрясло. От смеха. Он чуть не упал.
Там было написано такое…
И парнишка заглянул. Написанное Фрулоффым его удивило.
– И как это она, в окошечке-то, еще вежливо с ним разговаривала, ничего себе…
Петров сказал:
– Черт знает… слов не нахожу… ей-ей, не могу, ну и ну!
– Да разве можно с таким человеком так долго разговаривать! – не унимался парнишка.
Он выбежал на улицу и крикнул вслед Фрулоффу: – Ты что, одурел?
– Обиделся… – сказал Петров. – Ну, надо же…
– Да, может, он и не суфлер… – вздохнул парнишка.
– А кто же он?
– Ну и суфлеффф… вот те суфлер… суфлер… – Парнишечка вздохнул.
Другие подошли. Прочли. И контора от смеха перекосилась.
От автора: к сожалению, меня тогда не было в этой конторе, и я не знаю, что там было написано.
Жаль…
Пристани
В возрасте пяти лет я преспокойно прошел по карнизу пятого этажа. Меня в доме ругали и даже побили за то, что я прошел по карнизу. Я убежал из дома и добрался до города Сыктывкара. Там я поступил на работу в порт. Хотя мне было всего пять лет, но я уже крепко стоял на ногах и мог подметать исправно пристань. Мне едва хватало на хлеб, но через месяц я подметал две пристани в день, затем три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Через год я подметал двести семьдесят пристаней. Мне стало уже не хватать пристаней, для меня срочно строили новые, но я успевал подмести их раньше, чем их успевали построить. Дело дошло до того, что я подметал те пристани, которые были еще в проекте и которых в проекте не было. Папаша, узнав о моих достижениях, не скрывая восторга, воскликнул:
– Молодец! Пробился в люди.
О чемодане
Две старушки беседуют на углу:
– Ну как, твой сынок уехал?
– Чемодан, понимаешь, ему купили, а он взял с собой рюкзак. Чемодан-то ему оказался не нужен, а деньги-то ведь текут… Куда теперь чемодан-то использовать? Ведь в карман не положишь – торчит в углу комнаты, весь пейзаж портит. День и ночь кошка на нем сидит. Будто для кошки его купили. Все дни чемодан у меня в голове. Чемодан, он чемоданом останется – и ничего для него не придумаешь нового. Если бы, например, стол, или шкаф, или, к примеру, диван какой, так на диване сидеть еще можно. А чемодан не пригоден к этому. Горе мне с чемоданом! Напишу Ваське: мол, приезжай, совершенно его пристроить негде. Загонит меня чемодан в могилу.
– А ты под кровать положи.
– Да ты что, с ума? Для того разве мы чемодан купили, чтобы его под кровать пихать? Упаси бог, лучше пусть чемодан на виду стоит, чем под кроватью пылится. Чего доброго, про него забудешь, так он и простоит там тысячу лет. Ничего себе ты придумала! Эдак выходит, их покупай, а потом под кровать запихивай? Спасибо тебе на здоровье!
– А ты попробуй его на шкаф. Со шкафа небось видно будет.
– Чемодан у меня ведь шире шкафа. Тогда шкаф надо на чемодан поставить. Только не принято так у людей, чтобы шкафы ставили на чемоданы.
– Так что же тебе с ним делать?
– В том-то и дело, что нечего делать. Вопрос ведь в это и упирается. Оттого и мучаюсь. Спать не могу. О чемодане все рассуждаю. Потому что ежели он не нужен, так и покупать его было не нужно. У меня во всем должен быть порядок. И чемоданы на месте, и все как положено.
– Да, тяжелый вопрос.
– А я об чем? Конечно, тяжелый. Кабы легкий был – делов-то мало. С чемоданом этим мозгами закрутишь. Поди попробуй управься. Так, глядишь, каждый себе чемоданов накупит… А к чему они? Ясное дело, что ни к чему.
– Так что же ты думаешь делать?
– Право, я и не знаю. Серьезная тема. Ну, приходи вечером, поговорим.
Я зашел бы к вам
Если бы я знал, куда открывается ваша дверь… я зашел бы к вам. Но я не знал этого.
Жена говорит:
– Пойдем сходим к ним…
А я ей говорю:
– А дверь?
Она говорит:
– Что – дверь?
– Ты знаешь, куда она открывается?
– Нет, – говорит она, – не знаю.
– Вот в том-то и дело, я тоже не знаю.
– Как жаль, значит, мы не пойдем к ним в гости.
– Нет, почему же? Мы сходим, надо только узнать заранее, в какую сторону открывается дверь.
Я тебе – ты мне
– Дай то-то.
– На, но помни, что я тебе дал.
– Дай теперь ты то-то.
– Не дам.
– А помнишь, я тебе дал то-то?
– А зачем ты дал, ты не давал бы.
Стук
Я ждал, когда нам починят крышу.
Началось это так:
БУМ! БУМ! БУМ!
Потом по-другому:
БАМ! БАМ! БАМ!
Потом:
ТРАХ! БУМ! БАХ!
Потом:
БИМ! БИМ! БИМ!
Потом деликатно:
ТИК! ТИК! ТИК!
Потом громко и долго:
БУМ! БУМ! БУМ! БАМ! БАМ! БАМ! БУМ! БУМ!
Потом удивительно резко:
ТРРРАХ! ТРРРРРАХ! ТРРРАХ!
Потом несравненно, ни с чем несравненно:
УУУУХ! УУУУУУУУХ!!
Потом выразительно:
БАЦ! БАЦ! БАЦ!
Потом витиевато:
ТРАМБАЛАМБЫМ! ТРЫМБАЛАМБЫМ!!!
Потом сумбурно:
БУМ! БАМ! ТРАМ! БУМ! БИМ! ТИК! ТРРАХ! УУУХ! БАЦ! БАЦ! ТРЫМБАЛАМБЫМ!!!
Через год починили всю крышу. А я к этому времени уже оглох окончательно.
Флажки, кругом флажки
Флажки, кругом флажки, все небо в флажках, и флажками насыщен воздух. Сидит маленький мальчик среди флажков и ест флажок.
Симпатичный человек
– Приветствую вас, – сказал он, входя и снимая шапку.
– Привет! – сказал я.
– Привет! – сказал он, надел шапку и вышел. Только его и видели. Он очень понравился мне. Какой-то он был симпатичный и странный. Приятный он был человек.
Человек идет по рельсам
Человек идет по рельсам.
Блестят бликами рельсы.
Шпалы, шпалы под ногами. Рельсы идут в перспективу.
Человек идет в перспективу.
Так, так – отбивают шаги.
Пыль под ногами, пыль.
Насыпи по бокам, по бокам насыпи.
Человек идет по рельсам.
«Где конец рельсам, – думает он, – где конец рельсам?»
Там, где они сходятся, там, где они сходятся. Дождь идет на рельсы, снег идет на рельсы. Человек идет по рельсам.
И так хорошо, и так хорошо
Когда я в жаре под солнцем, я хочу на дождь и туман.
Вот дождь барабанит мне по макушке, туман окутывает меня. В тумане мои мечты – о солнце.
На солнце мне жарко.
Пусть лучше дождь барабанит мне по макушке.
Окно против окна
Весело мне, очень весело – я смотрю из окна в окно напротив и опять вижу ее.
Я вижу ее каждый день в окно, и она меня тоже.
Утром расчесывает она волосы у окна, а я ей машу из окна рукой. Днем она улыбается мне из окна, и я улыбаюсь ей из окна.
Вечером она поет у окна, подперев рукой щеку, я смотрю на нее, подперев рукой щеку.
Между нашими окнами целая улица. Но словно нет между нами улицы – так мне кажется.
Прохожий
Прохожий идет по улице с непокрытой головой.
Мороз и снег на улице. Локти на пиджаке протерты, а воротник пиджака поднят кверху.
Взрывы бомб, плач детей, облака и любовь, цветы и солнце, горе и радость, мосты через реки, моря и горы несет в себе прохожий.
Почему я иду ать-два?
Правой ногой, левой, ать-два, ать-два!
Музыка где-то играет марш.
Ать-два! – я иду. Ать-два!
А кто знает, я и сам не знаю, я независимо от себя иду ать-два. Как я ни противлюсь, все равно иду ать-два.
Что же мне делать, раз я не могу не идти ать-два, когда рядом играет марш.
Кваканье
(Мой сосед)
Мой сосед квакал. Он квакал самым естественным образом в радиопостановках. Я часто слышал его дивный голос в различных детских сказках. Квакал он прямо-таки виртуозно: «Ква-ква, ква-ква, ква-ква!» Я всегда удивлялся, как человек навострился так ладно квакать.
Он говорил мне за чаем сотни раз: «Жаль, не умею я хрюкать и лаять, а то б зарабатывал втрое больше».
Ничего тут странного не было
Ничего тут странного не было. Вася сел с пилой возле дерева на проспекте и стал пилить ствол. Люди прогуливались по проспекту. На Васю не обращали внимания. А когда дерево рухнуло, все смылись. А Вася пошел домой.
Одна старушка догнала его и спросила, к чему все это. Он сказал:
– О, здрасте, Первое мая, очень приятно вас видеть!
А потом сказал:
– Пьезонаушники пристроить к скрипке, ка-ак жмыкнешь – о, красота!
Пятно на стене
Мне показалось, я вижу пятно на стене. И в то же время я не был уверен, что пятно там действительно есть. То есть я его видел и мог бы поспорить с кем угодно, но было сомнение в какой-то малой доле. Я встал и потрогал стену в том месте, где, как мне казалось, было пятно, дабы проверить, не сыро ли здесь.
Но это место не было сырым, и я стал сомневаться гораздо больше в существовании пятна, чем до того, как потрогал стену. Я уже готов был отойти от стены, как вдруг что-то треснуло, поднялась пыль столбом, и зеленая тень легла вдоль стены. Потом тень стала розовой. На месте пятна образовалась дыра. Я разломал края этой дыры, чтобы заглянуть внутрь. Просунув голову в дыру, я понял, что обратно мне ее не вытащить.
В дыру я видел собак и кошек. Кошки вскорости побежали, а за ними также и все собаки.
Видимо, начиналось землетрясение.
Молодцы
Вот где молодцы работнички! Вот где да! Вот где! Вот это да! Молодцы! Вот это они сделали! Здорово сделали! Ох, и поработали! Молодцы молодчики, молодые молодцы! Не просил их никто, никто не просил. Все сами, инициатива все, взялись сами, все сами! Вот бы все так! Вот все бы! Эх, а не все так. Не сделают это. А эти, эх и! Ну и! Ох, молодцы, ох молодчики, честные, любят работу, трудятся, эх, что там, ох и молодцы, ох и, ух ты… Так они ведь не то сделали…
Веселое настроение
– Веники продаем! Веники продаем! – кричит женщина на углу.
Полная корзина веников. Почему бы мне не купить веник?
– Дайте веник.
Я иду по улице, машу веником.
– Простите, где вы купили веник? – интересуется милая девушка.
– Как где купил, на углу купил…
Я провожаю девушку.
Она тоже купила веник, и мы вдвоем с ней машем вениками и смеемся.
Это было вчера
Нас разделяла перегородка с обоями с двух сторон. За перегородкой я слышал, как Кошкин кашлял и как смеялся, когда вычитывал в книжках смешное. Он всегда громко смеялся, читая забавные книжки. Иногда он смеялся по целым дням, с перерывами на обед. Это значит, что книжка попалась очень забавная. Он стучал мне в перегородку, приглашая с ним посмеяться. Мы сидели вдвоем на его диване и грохотали что было мочи. Мы смеялись так, что графин на столе выплескивал воду. Я не мог очень много смеяться, я тотчас чувствовал спазмы в горле и уходил к себе. Каждый раз зарекался я смеяться так сильно. Вот и сейчас, я только что лег и улеглись мои спазмы, как вдруг он опять стал звать меня, заливаясь смехом. Но я больше не мог смеяться. Он позвал меня еще раза два. Я притворился спящим.
И вдруг… Он прошел сквозь перегородку, прошел надо мной по воздуху, сотрясаясь от смеха, вошел в другую стенку, вышел из нее, нырнул в потолок и все продолжал смеяться, смеяться, потом он вошел преспокойно в пол, вышел из пола, нырнул в окно, вынырнул из окна, затем пропал на моих глазах, очутился на улице, и оттуда я слышал его непрерывный смех.
Я накрыл голову одеялом. Это все показалось мне слишком странным. Я накрыл голову одеялом и так сидел без движения, но чувствовал, что у меня дрожат коленки. Кошкин звал меня за перегородку.
Я молчал.
Он снова позвал меня.
Я молчал.
– Сережа, – спросил он, – ты спишь?
– Я не пойду, – сказал я глухо.
– Ну и дурак, – сказал он.
– Ну и ладно, – сказал я глухо.
Кошкина хоронили на другой день. Он лежал в гробу с улыбкой. Его провожали с музыкой. На кладбище выступали ораторы. Хвалили Кошкина. Говорили, что зря он умер. Плакала мать его, приехавшая из Пензы. Печально смотрел в одну точку брат его из Мытищ.
На следующее утро Кошкин позвал меня из своей комнаты. Он опять над чем-то смеялся. Это меня удивило, так как он вчера умер. Я вошел к нему. Он сидел на диване и читал книгу.
– Ты же умер, – сказал я ему.
– Это было вчера, – сказал он просто.
Я жду вас всегда с интересом
Такого педагога я не встречал за все время своей учебы. А учился я много. Ну, во-первых, я в некоторых классах не по одному году сидел. И когда в художественный институт поступил, на первом курсе задержался. Не говоря уже о том, что поступал я в институт пять лет подряд.
Но никто не отнесся ко мне с таким спокойствием, с такой любовью и нежностью, никто не верил так в мои силы, как запомнившийся мне на всю жизнь профессор анатомии. Другие педагоги ставили мне двойки, даже не задумываясь над этим. Точно так же не задумываясь, они ставили единицы, а один педагог поставил мне ноль. Когда я спросил его, что это значит, он ответил: «Это значит, что вы – НОЛЬ! Вы ни черта не значите, вы не согласны со мной?» – «Послушайте, – сказал я тогда, – какое вы имеете право ставить мне ноль? Такой отметки, насколько мне известно, не существует!» Он улыбнулся мне прямо в лицо и сказал: «Ради исключения, приятель, ради исключения, я делаю для вас исключение!» Он сказал таким тоном, как будто это было приятное исключение. Этим случаем я хочу показать, насколько все педагоги не скупились ставить мне низкие оценки.
Но этот! Нет, это был исключительный педагог!
Когда я пришел к нему сдавать анатомию, он сразу, даже не дождавшись от меня ни слова, сказал, мягко обняв меня за плечо:
– Ни черта вы не знаете…
Я был восхищен его проницательностью, а он, по всему видно, был восхищен моим откровенным видом ничего не знающего ученика.
– Приходите в другой раз, – сказал он.
Но он не поставил мне никакой двойки, никакой единицы, ничего такого он мне не поставил! Когда я спросил его, как он догадался, что я ничего не знаю, он в ответ стал смеяться, и я тоже, глядя на него, стал хохотать. И вот так мы покатывались со смеху, пока он, все еще продолжая смеяться, не махнул рукой в изнеможении:
– Фу… бросьте, мой милый… я умоляю, бросьте… ой, этак вы можете уморить своего старого седого профессора…
Я ушел от него в самом прекрасном настроении.
Во второй раз я, точно так же ничего не зная, явился к нему.
– Сколько у человека зубов? – спросил он.
Вопрос ошарашил меня: я никогда не задумывался над этим, никогда в жизни не приходила мне в голову мысль пересчитать свои зубы.
– Сто! – сказал я наугад.
– Чего?
– Сто зубов! – сказал я, чувствуя, что цифра неточная.
Он улыбался. Это была дружеская улыбка. Я тоже в ответ улыбнулся так же дружески и сказал:
– А сколько, по-вашему, меньше или больше?
Он уже вздрагивал от смеха, но сдерживался. Он встал, подошел ко мне, обнял меня, как отец, который встретил своего сына после долгой разлуки.
– Я редко встречал такого человека, как вы, – сказал он, – вы доставляете мне истинное удовольствие, минуты радости, веселья… но, несмотря на это…
– Почему? – спросил я.
– Никто, никто, – сказал он, – никогда не говорил мне такой откровенной чепухи и нелепости за прожитую жизнь. Никто не был так безгранично невежествен и несведущ в моем предмете. Это восхитительно! – Он потряс мне руку и, с восхищением глядя мне в глаза, сказал: – Идите! Приходите! Я жду вас всегда с интересом!
– Спросите еще что-нибудь, – сказал я обиженно.
– Еще спросить? – удивился он.
– Только кроме зубов.