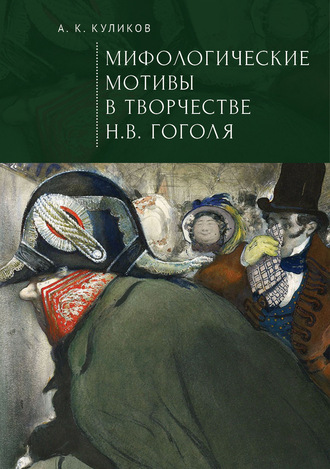
Полная версия
Мифологические мотивы в творчестве Н. В. Гоголя. Философский анализ
Так, в «Мертвых душах» Гоголь открыто ставит знак равенства между научными изысканиями и сплетнями двух светских дам, говоря о том, как самое неправдоподобное предположение бывает вскоре раздуто и принято за истину лишь в силу простого его повторения, провозглашения в книгах и ex cafedra: «Цитирует немедленно тех и других древних писателей и чуть только видит какой-нибудь намек или просто показалось ему намеком, уж он получает рысь и бодрится, разговаривает с древними писателями запросто, задает им запросы и сам даже отвечает за них, позабывая вовсе о том, что начал робким предположением; <…> Потом во всеуслышанье с кафедры, – и новооткрытая истина пошла гулять по свету, набирая себе последователей и поклонников» [6; 188]. Если каждая научная теория – лишь гипотеза, которая неизбежно неполна, сомнительна и безусловно будет со временем отброшена и заменена другой гипотезой, если каждый раз ученый сознает свою погрешимость и не знает, как выглядит абсолютная истина, то чем, в конечном счете, его привычка «видеть число, пространство, движение» значительнее какого-нибудь закрепившегося в светском обществе слуха?
Мы сознаем, что и над современными теориями «также будут смеяться потом», отвергая их, будущие поколения. Говорить о росте и совершенствовании знаний имело бы смысл только в том случае, если бы у нас была непогрешимая шкала, по которой можно было бы откладывать достижения ученых, такая шкала, которая годилась бы для всех исследователей, причем годилась бы и вчера, и сегодня, и завтра. Ясно, что такой шкалы нет. Чем в таком случае научная гипотеза, пусть даже исполненная самозабвенной любви к знанию и человечеству, наука для науки, принципиально отличается от самозабвенной, глубоко бескорыстной лжи Хлестакова? О ней Мережковский, например, замечает, что это «ложь для лжи, искусство для искусства. Ему в эту минуту ничего не надо от слушателей: только бы поверили. Он лжет невинно, бесхитростно и первый сам себе верит, сам себя обманывает – в этом тайна его обаяния»[43]. Таково и обаяние ученого-исследователя. Или – чем честный, одержимый жаждой знаний исследователь в сущности отличается от гоголевского почтмейстера, вскрывающего чужие письма не корысти ради и не для доносов, а из невинного, чисто исследовательского любопытства человека из глубинки: «Смерть люблю узнать, что есть нового на свете»?
Но наука вовсе не так чистосердечна и проста, как Хлестаков, и не так невинна, как почтмейстер: фикции достижений и величия и здесь уродуют, порабощают человека не меньше, чем в чиновничьем мире рангов и наград. И здесь мания славы и обладания ради пустых символов и слов разрушают человеческое в человеке: «Не приведи бог служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек», – правдиво говорит смотритель училищ.
Об Акакии Акакиевиче Гоголь пишет: «существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп» [3; 169]. Гоголю по-своему родственен руссоистский пафос, перенятый позже и усиленный Львом Толстым: наука, как и иные фикции культуры, равнодушна к человеку, ей дороже муха, ей нет дела до жизни и смерти Акакия Акакиевича. Желая служить абстракциям истины и знания, а не конкретным людям, наука оказывается нелепой и бесчеловечной. Не для того ли нужна она, чтобы отвлечь избранное меньшинство ученых от зрелища мира не просто недоступного разумному познанию, но высмеивающего и отвергающего всякую разумность, того мира, в котором живут Башмачкин, Поприщин, Ковалев…?
Все сказанное в «Выбранных местах» об изучении грамоты и образовании крестьян по существу уже содержалось в художественных произведениях Гоголя. Для чего крестьянам осваивать грамоту? – размышляет Гоголь. Понять великую литературу, творения больших философов и поэтов, они все равно не смогут, так как для этого нужна не просто грамотность, а всестороннее, систематическое образование, нужно свободное время и желание, готовность читать, нужен и просто доступ к такой литературе. Но этого у крестьян нет и не будет, пока они останутся крестьянами. А чтение легких и пустых книжек во всех отношениях менее полезно, чем работа в поле. Библию же местный священник объяснит крестьянам доходчивее любых книг[44]. Аналогично, все, что сказано у позднего Гоголя относительно либеральных идеалов и реформаторских начинаний, просто и сжато представлено уже в концовке «Старосветских помещиков», в которой описывается, как быстро новоприбывший «страшный реформатор» разрушил покойный идиллический мир уединенной деревни: реформатор этот «так хорошо распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку» [2; 38].
Между более ранними, художественными, произведениями Гоголя и «Выбранными местами» нет принципиальных разрывов и больших скачков, как нет их между романами и поздней моралистикой Толстого. «Выбранные места» лишь продолжают мифологический процесс гоголевского творчества, выступают одним из многих равно значительных и необходимых звеньев этого процесса.
Весьма любопытно, что в философии мифологии мы находим немало нападений на науку, часто предстающую здесь лишь абстрактным обеднением, убийственной схематизацией мифа: «Опознав категориальные основы мифического понимания причинности и выразив в понятиях все элементы его, нельзя не согласиться с тем, что состав его несравненно богаче, чем состав современного научного понимания причинности: научное миропонимание сохранило только порядок событий во времени и отвлеклось от всего остального сложного содержания причинности; оно есть плод чрезвычайно далеко идущей абстракции»[45]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
См. Глава 1. Стр. 19–21.
2
Терц А. В тени Гоголя – London: Overseas Publications Interchange. 1975. С. 514–515.
3
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. Т. 4. – М.; Л.: Издательство Академии наук СССР. 1938. С. 100. В дальнейшем все ссылки на это издание даются прямо в тексте с указанием тома и страницы.
4
Об этом см. особенно Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II: Мифологическое мышление – М.: Академический Проект. 2011. С. 14–17.
5
См. Лотман Ю.М. О «реализме» Гоголя // Труды по русской и славянской филологии. – Тарту: Тартуский университет, 1996. С. 18–24.
6
Там же. С. 11.
7
Паскаль Б. Мысли. Афоризмы – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 78.
8
Там же. С. 70–73.
9
Терц А. В тени Гоголя – London: Overseas Publications Interchange. 1975. С. 528.
10
См. Шестов Л. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. На весах Иова (Странствие по душам) – М.: Наука. 1993. С. 50–51.
11
Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века) – СПб., 1994. С. 46.
12
В «Шинели» читаем о судьбе «значительного лица»: «Получивши генеральский чин, он как-то спутался, бился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон» [3; 165].
13
Ср. знаменитый отрывок: «Наши судейские отлично поняли эту тайну. Их алые мантии, горностай, в котором они похожи на пушистых котов, дворцы, где они вершат суд, королевские гербы – все это торжественное великолепие совершенно необходимо; и если бы врачи лишились своих мантий и туфель, если бы ученые не имели квадратных шапочек и широчайших рукавов, – они бы ни за что не сумели заморочить весь честной народ, беззащитный перед таким удивительным зрелищем… Мы не можем просто смотреть на адвоката в мантии и квадратной шапочке и не составить себе при этом благоприятного мнения о его познаниях» (Паскаль Б. Мысли. Афоризмы – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 65–66.).
14
См. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II: Мифологическое мышление – М.: Академический Проект. 2011. С. 50–51.
15
См. Лосев А. Ф. Диалектика мифа. – М.: Мысль. 2001. С. 55.
16
См. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II: Мифологическое мышление – М.: Академический Проект. 2011. С. 68.
17
Лосев, например, пишет о постоянно смеющихся гомеровских богах: «Ясно, что или никаких богов нет или, если они есть, то и смех их тоже характеризует собою их вечность, их мудрое и мощное содержание, которое и является их сущностью. В вечности, в идеальном не может быть разницы между существенным и несущественным, необходимым и случайным, вечным и временным. Тут все одинаково вечно, одинаково существенно, одинаково необходимо» (Лосев А. Ф. Гомер – М.: Молодая гвардия. 2006. С. 366).
18
Кассирер Э. Философия символических форм. Т. II: Мифологическое мышление – М.: Академический Проект. 2011. С. 68–70.
19
МережковскийД. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование; Итальянские новеллы – М: Книжный Клуб Книговек. 2010. С. 189.
20
Лосев А. Ф. Диалектика мифа. – М.: Мысль. 2001. С. 105–106.
21
Подлинное объяснение мифологии, подчеркивает Шеллинг, должно дать ответ на вопрос: «как возможно то, что народы древности вполне доверяли религиозным представлениям, которые кажутся нам нелепыми и неразумными, что они не только доверяли им, но и приносили им самые суровые и нередко тяжкие жертвы?» (Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения. Т. 2. -М.: Мысль. 1989. С. 324). См. также РезвыхП. В. Шеллинг и Лосев // Бюллетень Библиотеки «Дом А. Ф. Лосева», Вып. 12. – М.: Водолей. 2010. С. 107.
22
«Мне хотелось, – пишет Гоголь, – хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях» (Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Духовная проза: сборник. – М.: Астрель; Владимир: ВКТ. 2012. С. 7).
23
«Мифология – не аллегорична, она тавтегорична. Боги для нее – действительно существующие существа, которые вовсе не что-то иное, которые не значат ничего иного, но значат лишь то, что они есть» (Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения. Т. 2. – М.: Мысль. 1989. С. 325).
24
«… в карикатуре взята одна черта характера, и вся фигура отражает только ее – и гримасой лица, и неестественными конвульсиями тела. Она ложна и навеки запоминается. Таков и Гоголь» (Розанов В.В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Лит. Очерки. О писательстве и писателях – М.: Республика. 1996. С. 20).
25
Брюсов В. Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя // Н. В. Гоголь: pro et contra – М.: РХГА, 2009. С. 448.
26
Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре (по поводу сказки о Несмеяне). – М.: Лабиринт. 1999. С. 57.
27
Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения. Т. 2. – М.: Мысль. 1989. С. 264.
28
Там же. С. 211.
29
Там же. С. 213.
30
«Поскольку мифология – это нечто возникшее не искусственным, но естественным путем, а при наличии данной предпосылки – и возникшее с необходимостью, то в мифологии невозможно различать содержание и форму, материал и облачение. Представления не наличествуют поначалу в какой-либо иной форме, но они возникают именно в такой форме и, следовательно, вместе с нею» (Там же. С. 324).
31
Там же. С. 265.
32
См. Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства. – М.: Мысль. 1966. Особенно – С. 447.
33
Хюбнер К. Истина мифа. – М.: Республика. 1996. С. 14.
34
Булгаков С. Первообраз и образ: сочинения в двух томах. Т. 1. Свет невечерний. – СПб.: ИНАПРЕСС, М.: Искусство. 1999. С. 72.
35
Там же. С. 72–73.
36
Там же. С. 76.
37
Брюсов В. Я. Испепеленный. К характеристике Гоголя // Н. В. Гоголь: pro et contra – М.: РХГА, 2009. С. 466.
38
Цит. по Терц А. В тени Гоголя – London: Overseas Publications Interchange.
1975. С. 482.
39
Гоголь Н. В. Авторская исповедь // Духовная проза: сборник. – М.: Астрель; Владимир: ВКТ. 2012. С. 263–264.
40
Бахтин М. М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) // Вопросы литературы и эстетики – М.: Художественная литература. 1975. С. 495.
41
Франк. С. Л. Религиозное сознание Гоголя // Н. В. Гоголь: pro et contra – М.: РХГА, 2009. С. 637.
42
Паскаль Б. Мысли. Афоризмы – М.: АСТ: Астрель, 2011. С. 174.
43
Мережковский Д. С. Гоголь и черт: Поэзия; Гоголь и черт: исследование; Итальянские новеллы – М: Книжный Клуб Книговек. 2010. С 184.
44
См. Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Духовная проза: сборник. – М.: Астрель; Владимир: ВКТ. 2012. С. 135–136.
45
Лосский Н. О. «Мифическое» и современное научное мышление // Путь. № 14. С. 43.
Переход от телеологии мифа к механицизму науки Лосский также рассматривает как обесценивание описанного наукой бытия: «Отбросив деятеля, действование и цели, т. е. те моменты, которые существенно необходимы для идеи личности, современная наука сосредоточивается на таких аспектах бытия, которые, будучи взяты сами по себе, имеют безличный характер. Но ценности и смыслы существуют лишь в связи с личным бытием. Отсюда понятно, что современная наука, отвлекшись от личного бытия, отвлекается также от ценности и осмысленности возникновения новых событий» (Там же. С. 42).

