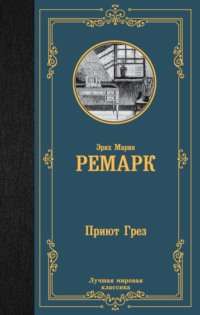Полная версия
Три товарища и другие романы
VII
Дня через два Кестер выбежал из мастерской.
– Робби, звонил твой Блюменталь! Он ждет тебя в одиннадцать с «кадиллаком». Хочет сделать пробную ездку.
Я швырнул на землю гаечный ключ.
– Черт возьми, Отто, неужели клюет?
– А что я вам говорил? – раздался из-под «форда» голос Ленца. – Он явится снова – вот что я вам говорил. Готфрида надо слушать!
– Кончай трепаться, дело серьезное! – крикнул я ему под машину. – Отто, сколько я могу ему уступить? Предельно?
– Предельно – две тысячи. Сверхпредельно – две тысячи двести. Упрется – две пятьсот. Если увидишь, что перед тобой сумасшедший, – две шестьсот. Но уж тогда скажи ему, что мы будем век его проклинать.
– Ладно.
Мы надраили машину до блеска. Я сел за руль. Кестер положил мне руку на плечо.
– Робби, не посрами свою солдатскую доблесть. Отстаивай честь нашей мастерской до последней капли крови. Умри стоя и положа руку на бумажник Блюменталя.
– Будет исполнено, – улыбнулся я.
Ленц нашарил в кармане медаль и сунул ее мне под нос.
– Дотронься до моего амулета, Робби!
– Изволь. – Я взялся за амулет.
– Абракадабра, великий шива, – в тоне молитвы произнес Готфрид, – благослови этого рохлю, надели его мужеством и силой! Подержись вот здесь, а еще лучше – возьми его с собой! Да, еще плюнь три раза.
– Все будет в порядке, – сказал я, плюнул ему под ноги и, оставив позади возбужденно махавшего мне бензиновым шлангом Юппа, выехал за ворота.
По дороге я купил несколько гвоздик и непринужденно расставил их по хрустальным вазочкам в салоне. Расчет был на фрау Блюменталь.
К сожалению, Блюменталь принял меня в конторе, а не на своей квартире. Мне пришлось подождать с четверть часа. «Ах ты, милашка, – подумал я, – этот трюк мне известен, так что не раскисну, не надейся». В приемной, заручившись расположением смазливой стенографистки, которую подкупил вынутой из петлицы гвоздикой, я выведал, с кем имею дело. Трикотаж, сбыт хороший, девять человек занято только в конторе, надежный компаньон, острейшая конкуренция со стороны фирмы «Майер и сын», Майеров сын разъезжает в красном двухместном «эссексе» – такие сведения я собрал к тому моменту, когда Блюменталь меня позвал.
Начал он с артподготовки.
– Молодой человек, – молвил он, – у меня мало времени. Цена, которую вы мне недавно назвали, – ваша несбыточная мечта. Итак, положа руку на сердце, сколько стоит машина?
– Семь тысяч, – заявил я.
Он резко откинулся.
– Тогда нам не о чем говорить.
– Господин Блюменталь, – сказал я, – да вы хоть взгляните еще раз на машину…
– Незачем, – прервал он меня, – я достаточно на нее насмотрелся, к тому же совсем недавно…
– Но смотреть ведь можно по-разному, – заявил я. – Вам нужно взглянуть на детали. Лакировка, к примеру, первоклассная, фирма «Фолль и Рурбек», двести пятьдесят марок по себестоимости; затем новые резиновые покрышки, каталожная цена шестьсот марок. Вот вам уже восемьсот пятьдесят. Далее – обивка из тончайшего корда…
Он от меня отмахнулся. Но я как ни в чем не бывало начал свою песню сначала. Призвал его осмотреть роскошный инструментарий, превосходный кожаный верх, хромированный радиатор, сработанные по последнему слову бамперы – шестьдесят марок пара; как младенца к матери, меня влекло к моему «кадиллаку», и, тоскуя по нему, я пытался увлечь за собой Блюменталя. Я знал, что при соприкосновении с ним у меня, как у Антея, коснувшегося земли, появятся новые силы. Абстрактный жупел цены не так страшен перед лицом конкретного товара.
Но и Блюменталь не хуже моего знал, что за письменным столом он сильнее. Он, как перед рукопашной, снял очки и взялся за меня по-настоящему. Мы сражались, как тигр с удавом. Удавом был Блюменталь. Не успел я оглянуться, как он уже оттяпал у меня полторы тысячи марок.
Дух мой слабел. Я сунул руку в карман и крепко сжал амулет Готфрида.
– Господин Блюменталь, – сказал я, весьма утомленный, – уже час, видимо, вам пора обедать! – Во что бы то ни стало я хотел вырваться из этого логова, в котором цены тают, как снег.
– Я обедаю в два, – хладнокровно заявил Блюменталь, – но знаете что? Мы могли бы теперь проехаться для пробы.
Я облегченно вздохнул.
– А затем продолжим наши переговоры, – добавил он.
Я снова вздохнул свободнее.
Мы поехали к нему на квартиру. В машине его словно подменили, что немало меня удивило. В самом добродушном тоне он рассказал мне бородатый анекдот об императоре Франце-Иосифе. Я отплатил ему таким же о трамвайном кондукторе; тогда он поведал о злоключениях саксонца в сумасшедшем доме, я в ответ – о шотландской любовной парочке; и только перед самым его домом мы снова посерьезнели. Он просил меня подождать, пока сходит за женой.
– Дорогой мой толстый «кадиллак», – произнес я, похлопывая машину по радиатору, – ясно, что эти россказни скрывают новые чертовы козни. Но не волнуйся, тебя мы пристроим. Он тебя купит, уж это точно: когда еврей возвращается, то он покупает. Когда возвращается христианин, это еще далеко ничего не значит. Он проделает дюжину пробных поездок, чтобы сэкономить на извозчике, а потом вдруг вспомнит, что ведь, в сущности говоря, мебель для кухни ему нужнее. Нет-нет, евреи – добрые люди, они знают, чего хотят. Но клянусь тебе, мой милый толстячок: если я уступлю сему прямому потомку браннолюбивого Иуды Маккавейского еще хотя бы сотню, то я до конца моей жизни не возьму в рот ни капли шнапса.
Появилась фрау Блюменталь. Я немедленно вспомнил о советах Ленца и превратился из борца в кавалера. Сам Блюменталь, глядя на это, лишь подленько ухмыльнулся. Этот субъект был из железа. Ему бы торговать паровозами, а не трикотажем.
Я устроил так, чтобы он сидел сзади, а его жена рядом со мной.
– Куда прикажете отвезти вас, сударыня? – льстивым голосом спросил я.
– Куда хотите, – ответила она с материнской улыбкой.
Я болтал без умолку – какое все же блаженство иметь дело с простодушным человеком. Говорил я так тихо, что Блюменталь мог слышать только обрывки фраз. Так я чувствовал себя свободнее. Хотя его присутствие я ощущал и спиной, и оно на меня давило.
Мы остановились. Я вылез из машины и твердо посмотрел своему противнику в глаза.
– Вы должны признать, господин Блюменталь, что машина идет как по маслу.
– Да уж какое там масло, молодой человек, – возразил он до странности дружелюбно, – когда человека пожирают налоги. А вы еще лупите кругленький налог за машину. Я вам говорю.
– Господин Блюменталь, – сказал я, стараясь не сбиться с тона, – это не налог, это издержки. Вы деловой человек, и поэтому я говорю с вами откровенно. Скажите сами, чего требует в наши дни дело? Вы ведь и сами знаете – не капитала, как прежде, а кредита, вот чего! А как заполучить кредит? Рецепт известен: по одежке встречают. «Кадиллак» – это и солидно, и элегантно, вполне уютно, но не старомодно. «Кадиллак» – это воплощение буржуазного здравого смысла, это живая реклама для фирмы.
– Каков юноша. Ну чистое дело еврейский колган, а? – обратился к жене повеселевший Блюменталь. – Ах, молодой человек, – сказал он затем, – чтоб вы знали: лучшая реклама для солидного заведения в наше время – это поношенный костюм и проездной на автобус. Если б у нас с вами были деньги тех людей, которые не тратятся на все эти шикарные, сверкающие до ряби в глазах машины, то нам с вами больше не о чем было бы беспокоиться. Я вам говорю. По секрету.
Я недоверчиво взглянул на него. Что значит этот внезапный дружеский тон? Может, присутствие жены сдерживает его боевой пыл? Пожалуй, пора давать решающий залп.
– Во всяком случае, такой «кадиллак» не сравнишь с каким-нибудь «эссексом», не правда ли, сударыня? Это уж пусть сыночек Майера разъезжает на таком драндулете, а я бы и задаром не взял этакую дрянь кричаще-красного цвета…
Я услыхал, как Блюменталь хмыкнул, и поторопился продолжить:
– А этот цвет, сударыня, вам необычайно идет, приглушенный кобальт для блондинки…
Блюменталь прыснул, и лицо его напомнило дергающиеся обезьяньи рожи.
– Насчет Майера – это не слабо, – простонал он. – А там уж пошла эта глупая лесть… Вот именно, лесть!
Я взглянул на него и не поверил своим глазам: в нем больше не было никакого притворства! И я стал изо всех сил давить на ту же педаль.
– Позвольте мне внести кое-какие уточнения, господин Блюменталь. Для женщины лесть никогда не является лестью. Но – комплиментами, которые в наш жалкий век, увы, стали редкостью. Ведь женщина – не стальная конструкция, а цветок, и не деловитость ей нужна, а теплая нега лести. Лучше каждый день говорить ей какие-нибудь милые пустяки, чем всю жизнь работать на нее с маниакальным занудством. Это я вам говорю. И тоже по секрету. К тому же я не льстил, а лишь припомнил классический закон физики, согласно которому синий цвет всегда идет блондинкам.
– Узнаю льва по его когтям! – сказал Блюменталь сияя. – Послушайте, господин Локамп! Я знаю, что мог бы выторговать у вас еще тысячу марок…
Я так и отпрянул, подумав, что вот он, этот долгожданный дьявольский удар. Я уже представил себе, как буду влачить жизнь угрюмого абстинента, и глазами измученной лани взглянул на фрау Блюменталь.
– Но, отец… – сказала она.
– Оставь, мать, – перебил он. – Итак, я мог бы выторговать еще, но не стану. Мне как деловому человеку доставляло удовольствие наблюдать за вашей работой. Пожалуй, фантазии пока еще многовато, но вот номер с Майерами был удачен. Ваша мать не еврейка ли?
– Нет.
– Вам доводилось работать в магазине готового платья?
– Да.
– Ну вот видите, отсюда и стиль. А по какой части?
– По части души, – ответил я. – Собирался стать учителем.
– Господин Локамп, – сказал Блюменталь, – снимаю шляпу! Ежели вдруг останетесь без места, позвоните мне.
Он выписал чек и подал его мне. Я не поверил своим глазам. Уплатил вперед! Не чудо ли?
– Господин Блюменталь, – сказал я сдавленным голосом, – позвольте мне бесплатно приложить к машине две хрустальные пепельницы и первоклассный резиновый коврик.
– Вот и прекрасно, – ответствовал он, – наконец-то дарят что-то и старику Блюменталю. – Вслед за тем он пригласил меня на следующий день поужинать. Фрау Блюменталь одарила меня материнской улыбкой.
– Будет фаршированная щука, – ласково сказала она.
– О, какой деликатес, – заявил я. – В таком случае я завтра же пригоню вам машину. А с утра мы оформим бумаги.
Назад в мастерскую я летел словно ласточка. Но Ленц и Кестер ушли обедать. Я был вынужден сдерживать свой триумф. Только Юпп был на месте.
– Ну как, продали? – спросил он с ухмылкой.
– Все-то тебе надо знать, плутишка, – сказал я. – На-ка тебе талер, построй на него самолет.
– Значит – продали, – ухмыльнулся Юпп.
– Я поеду обедать, – сказал я, – но горе тебе, если скажешь им хоть слово до моего возвращения.
– Господин Локамп, – заверил он меня, подбрасывая в воздух монету, – я буду нем как рыба.
– На нее-то ты и похож, – сказал я и дал газ.
Когда я вернулся, Юпп подал мне знак.
– Что случилось? – спросил я. – Ты проболтался?
– Как можно, господин Локамп! Да только тут этот малый… Ну, насчет «форда»…
Я оставил «кадиллак» во дворе и пошел в мастерскую. Там был и булочник. Склонившись над книгой, он рассматривал образцы красок, на нем было клетчатое пальто с поясом и широким траурным крепом. Рядом с ним была смазливая дамочка с бегающими черными глазками, в расстегнутом пальтишке, отороченном облезлым кроликом, и в лаковых туфельках, которые ей явно жали. Они обсуждали вопрос о том, какого цвета им выбрать лаковое покрытие. Чернявенькая особа была за яркий сурик, однако булочник выдвигал сомнения против красноватых тонов, так как он еще носил траур. Он предлагал блеклую серо-желтую краску.
– Глупости, – капризным голосом говорила чернявенькая, – «форд» должен быть броского цвета, иначе его никто не заметит.
Она бросала на нас заговорщицкие взгляды, пожимала плечами, когда булочник склонялся к образцам, передразнивала его, подмигивала нам. Эдакий живчик! Наконец они сошлись на зеленом, цвета резеды. При этом девушка настаивала на светлом верхе. Но тут уж булочник настоял на своем: надо ведь и траур обозначить. Он выбрал кожаное покрытие черного цвета и был в этом тверд. При этом он между делом слегка нагрел руки, ибо верх он получал бесплатно, а кожа была дороже ткани.
Они ушли. Во дворе, однако, вышла заминка: едва черненькая завидела «кадиллак», как пулей устремилась к нему.
– Ты только посмотри, киса, какая машина! Фантастика! Вот это мне нравится!
В следующее мгновение она уже, открыв дверцу, впорхнула на сиденье и, щурясь от восторга, запричитала:
– Вот это кресла! Колоссально! Как в ложе! Нет, это тебе не «форд»!
– Ну ладно-ладно, пошли, – недовольно проворчал ее киса.
Ленц толкнул меня в бок: мол, действуй, попытайся всучить машину булочнику. Я сверху вниз посмотрел на него и промолчал. Тогда он толкнул меня посильнее, я ответил ему тем же и отвернулся.
Лишь с трудом булочник извлек наконец из машины свое чернявое сокровище и ушел с ней, как-то сгорбившись и осердясь.
Мы посмотрели вслед этой парочке.
– Человек быстрых решений! – сказал я. – Машина отремонтирована, жена новая – нет, каков молодец!
– Ну, с этой он еще напляшется, – сказал Кестер.
Едва они скрылись за поворотом, как Готфрид напустился на меня:
– Ты в своем уме, Робби? Упускать такой шанс! Да ведь это был учебный пример на тему о том, как надо действовать!
– Унтер-офицер Ленц, – возвысил голос я, – грудь колесом, когда разговариваете со старшим по званию! Я, к вашему сведению, не сторонник двоеженства и не стану выдавать машину замуж вторично!
Момент был впечатляющий. Глаза у Готфрида стали как блюдца.
– Не шути так со святыми вещами, – выдавил он из себя.
Не обращая на него больше внимания, я обратился к Кестеру:
– Отто, прощайся с нашим сыночком «кадиллаком»! Он больше не наш. Отныне он украсит собой достославную фирму подштанников! Будем надеяться, он заживет там недурно. Не так героически, как у нас, зато куда более вольготно!
Я вынул чек. Ленц едва удержался на ногах.
– Не может быть! Что? Неужели? Ну, не получено же… – прошептал он хрипло.
– А вы что, птенчики, думали! – сказал я, помахивая чеком. – Угадайте сколько!
– Четыре! – выкрикнул Ленц, закрыв глаза.
– Четыре с половиной, – сказал Кестер.
– Пять! – крикнул Юпп от бензоколонки.
– Пять с половиной! – выпалил я.
Ленц вырвал у меня чек.
– Нет, это невероятно! Нет, по нему наверняка не заплатят!
– Господин Ленц, – сказал я с достоинством, – чек настолько же благонадежен, насколько неблагонадежны вы! Мой друг Блюменталь не затруднится уплатить в двадцать раз больше. Подчеркиваю: мой друг, у которого завтра вечером я ем фаршированную щуку. И да послужит вам это примером! Заключить дружбу, получить деньги вперед и быть приглашенным на ужин – вот что значит уметь продавать! Так-то, а теперь вольно!
Готфрид с трудом приходил в себя. Он сделал последнюю попытку:
– А мое объявление в газете! Мой амулет!
Я сунул ему медаль.
– На, возьми свой собачий жетон. Совсем забыл о нем.
– Сделка безупречная, Робби, – сказал Кестер. – Слава Богу, что мы наконец сбыли нашу телегу. А деньги нам сейчас невероятно кстати.
– Дашь мне пятьдесят марок авансом? – спросил я.
– Сто. Ты их заслужил.
– Не желаешь ли взять в счет аванса и мое серое пальто? – спросил Готфрид, сладко сощурив глаза.
– Не желаешь ли попасть в больницу, несчастный хамоватый ублюдок? – парировал я.
– Парни, закрываем лавочку, на сегодня хватит! – предложил Кестер. – И так заработали за день немало! Нельзя искушать Всевышнего… Поедем на «Карле» за город, потренируемся хоть перед гонками.
Юпп давно уже забыл про свой насос. Волнуясь, он потирал руки.
– Господин Кестер, тогда я, получается, остаюсь здесь за старшего, да?
– Нет, Юпп, – засмеялся Кестер, – не получается. Ты поедешь с нами!
Сначала мы заехали в банк и сдали чек. Ленц никак не мог успокоиться до тех пор, пока не удостоверился, что с чеком все в порядке. А потом мы рванули с места, да так, что из выхлопной трубы посыпались искры.
VIII
Я стоял перед своей хозяйкой.
– Ну, где горит? – спросила фрау Залевски.
– Нигде, – ответил я. – Просто хочу заплатить за квартиру.
До истечения срока оставалось три дня, и фрау Залевски едва не упала от удивления.
– Тут дело нечисто, – высказала она свое подозрение.
– Отнюдь, – возразил я. – Вы позволите мне взять на сегодняшний вечер оба парчовых кресла из вашей гостиной?
Она грозно вперила руки в свои увесистые бока.
– Вот оно что! Вам, значит, больше не нравится ваша комната?
– Нравится. Но ваши парчовые кресла мне нравятся больше.
Я объяснил, что меня, возможно, посетит кузина и поэтому мне хотелось бы несколько украсить свою комнату. Она хохотала так, что грудь ее накатывала на меня, как девятый вал.
– Кузина! – передразнила она меня, вложив в интонацию все свое презрение. – И когда же пожалует ваша кузина?
– Ну, я в этом не совсем уверен, но если она придет, то, конечно, достаточно рано, к ужину. А почему, собственно, не должно быть на свете кузин, фрау Залевски?
– Кузины на свете, конечно, бывают, да только ради них не одалживают кресла.
– А я вот одалживаю, у меня, видите ли, очень развито родственное чувство, – заявил я.
– Как же, как же! На вас это очень похоже! Все вы шатуны. А парчовые кресла можете взять. Свои плюшевые поставьте пока в гостиную.
– Большое спасибо. Завтра я все верну на свои места. И ковер тоже.
– Ковер? – Она повернулась. – Кто здесь сказал хоть слово о ковре?
– Я. Да и вы тоже. Только что.
Она сердито смотрела на меня.
– Так он как бы часть целого, – сказал я. – Ведь кресла стоят на нем.
– Господин Локамп, – заявила фрау Залевски величественным тонам, – не заходите слишком далеко! Умеренность во всем, как говаривал блаженной памяти Залевски. Не худо бы и вам усвоить себе этот девиз.
Я-то знал, что этот девиз не помешал блаженной памяти Залевски однажды в буквальном смысле упиться до смерти. Его жена в иных обстоятельствах сама не раз рассказывала мне об этом. Но ей это было нипочем. Она использовала своего мужа, как другие люди Библию, то есть для цитирования. И чем больше времени проходило со дня его смерти, тем больше изречений она ему приписывала. Теперь он уже – как и Библия – годился на все случаи жизни.
Я приводил свою комнату в божеский вид. Днем я разговаривал с Патрицией Хольман по телефону. До этого она была больна, и я целую неделю не виделся с ней. Теперь же мы условились на восемь, я предложил поужинать у меня, а потом пойти в кино.
Парчовые кресла и ковер производили внушительное впечатление, но освещение портило все. Поэтому я постучал к своим соседям, Хассам, чтобы попросить у них настольную лампу на вечер. Фрау Хассе с усталым видом сидела у окна. Ее супруга еще не было дома. Он по собственной воле задерживался на часик-другой на работе, лишь бы избежать увольнения. Фрау Хассе чем-то напоминала больную птицу. В ее расплывшихся и постаревших чертах все еще проглядывало узкое личико маленькой девочки – разочарованной и печальной.
Я изложил свою просьбу. Несколько оживившись, она вручила мне лампу.
– Подумать только, – сказала она, вздыхая, – ведь и я в свое время…
Эту историю я знал назубок. Она повествовала о том, какие замечательные виды открылись бы перед ней, если б она не вышла замуж за Хассе. Я знал эту историю и в редакции самого Хассе. Там речь шла о том, какие перед ним открылись бы замечательные виды, если бы он не женился. По-видимому, это была самая банальная история на свете. И самая безнадежная.
Я послушал ее какое-то время, вставив по ходу дела несколько подходящих фраз, и направился к Эрне Бениг за ее патефоном.
Фрау Хассе говорила об Эрне не иначе как об «этой особе, проживающей рядом». Она презирала ее, потому что завидовала. Я же души в ней не чаял. Она не строила себе никаких иллюзий и твердо знала, что нужно постараться урвать хоть немного от того, что у людей называется счастьем. Знала она и то, что за каждую кроху счастья нужно платить вдвое, а то и втридорога. Счастье – это самая неопределенная вещь на свете, которая идет по самой дорогой цене.
Эрна опустилась на колени и принялась рыться в чемодане, подбирая мне пластинки.
– Фокстроты хотите? – спросила она.
– Нет, – ответил я, – я не умею танцевать.
Она удивленно воззрилась на меня.
– Не умеете танцевать? Но что же вы делаете, когда ходите вечером развлекаться?
– Устраиваю перепляс в своем горле. Тоже, знаете, получается неплохо.
Она покачала головой:
– Мужчина, не умеющий танцевать? Нет, я такому сразу бы дала от ворот поворот!
– У вас суровые правила, – заметил я. – Но ведь есть же и другие пластинки. Вот недавно у вас играла замечательная – знаете, такой женский голос и что-то вроде гавайской музыки…
– А, это чудо! «И как я жить могла без тебя?…» Эта, да?
– Точно! Кто только придумывает все эти слова! Мне кажется, что авторы этих песенок должны быть последними романтиками на нашей земле.
Она засмеялась.
– Вполне возможно, что так оно и есть. Ведь патефон теперь стал чем-то вроде альбома для посвящений. Раньше писали друг другу стишки в альбом, а теперь дарят пластинки. Если мне хочется вспомнить какой-нибудь эпизод из своей жизни, мне стоит лишь завести пластинку, которую я слушала тогда, и прошлое сразу оживет.
Я перевел взгляд на груду пластинок на полу.
– О, если судить по пластинкам, Эрна, то у вас есть о чем вспомнить.
Она встала с колен и откинула со лба непокорные рыжие волосы.
– Что верно, то верно, – сказала она, отодвигая ногой стопку пластинок. – Но я бы все свои воспоминания отдала за одно – настоящее…
Я вынул все, что закупил к ужину, и приготовил стол как умел. На помощь со стороны кухни рассчитывать не приходилось, отношения с Фридой у меня были слишком неважные. Уж она бы постаралась уронить что-нибудь на пол. Но я справился кое-как и сам, да так, что не мог узнать свою комнату в ее новом блеске. Кресла, лампа, накрытый стол – я чувствовал, как во мне растет беспокойное ожидание.
Я вышел из дома, хотя до условленного времени оставалось еще больше часа. На улице бушевал порывистый ветер, нападавший из-за угла. Фонари были уже зажжены. Сумерки между домами сгустились и посинели, как море. «Интернациональ» плавал в них, как фрегат со спущенными парусами. Я решил заглянуть туда на минутку.
– Гопля, Роберт, – встретила меня Роза.
– А ты что здесь поделываешь? – спросил я. – На дежурство не собираешься?
– Рановато еще.
Алоис словно соткался из воздуха.
– Одинарную? – спросил он.
– Тройную, – ответил я.
– Ого, резво ты начинаешь, – заметила Роза.
– Надо для куражу, – сказал я, опрокидывая ром.
– Сыграешь что-нибудь? – спросила Роза.
Я покачал головой:
– Неохота. Очень уж ветрено. Как твоя малышка?
Она улыбнулась всеми своими золотыми зубами.
– Не звонят, стало быть, все хорошо. Завтра опять к ней поеду. На этой неделе собралась приличная выручка: знать, весна уже задорит вас, старых козлов. Отвезу ей новое пальтишко. Из красной шерсти.
– О, красная шерсть – это последний крик моды, – сказал я.
Роза просияла.
– Какой ты джентльмен, Робби.
– Твоими бы устами да мед пить. Кстати, не выпить ли нам по одной? Тебе ведь анисовую?
Она кивнула. Мы чокнулись.
– Скажи-ка, Роза, а что, собственно, ты думаешь о любви? – спросил я. – Ведь ты в этих делах разбираешься.
Она рассмеялась звонким, раскатистым смехом.
– Ах, перестань, – сказала она, отсмеявшись. – Любовь! Хотя, конечно, и у меня был мой Артур… Как вспомню этого проходимца, так до сих пор чувствую слабость в коленках. Я вот что тебе скажу, Робби, если серьезно: человеческая жизнь слишком длинная для любви. Просто-напросто слишком длинная. Это мне мой Артур объяснил, когда удирал, на прощание. И это верно. Любовь – это чудо. Но для одного из двоих она всегда тянется слишком долго. А другой упрется как бык, и все ни с места. Вот и остается ни с чем – сколько бы ни упирался, хоть до потери пульса.
– Ясно, – сказал я. – Но и без любви человек – все равно что покойник в отпуске.
– А ты сделай как я, – сказала Роза. – Заведи себе ребенка. Вот и будет тебе кого любить и кем утешаться.
– Да уж, это идея! – засмеялся я. – Пожалуй, только этого мне не хватало.
Роза мечтательно покачала головой.
– Уж как меня, бывало, поколачивал мой Артур, а все равно – войди он сейчас сюда в своем котелке, эдак наискось сдвинутом на затылок… Милый ты мой! Да я вся трясусь, как только себе это представлю.