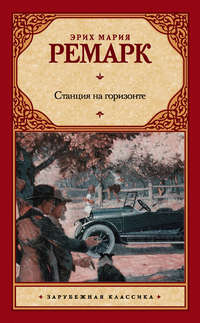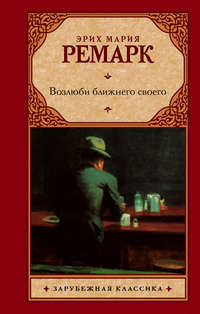Полная версия
Три товарища и другие романы
Он не повел и бровью.
– К тому же стекло небьющееся, – добавил я, начиная отчаиваться. – Неоценимое преимущество! Вот тут у нас в мастерской один «форд»… – И я рассказал про несчастную жену булочника и даже приукрасил эту историю, отправив на тот свет еще и ребенка.
Однако душа у Блюменталя была неуязвима, как сейф.
– Небьющееся стекло теперь во всех машинах, – прервал он меня, – в этом нет ничего особенного.
– Ни в одной машине серийного производства нет небьющегося стекла, – возразил я мягко, но решительно. – Лишь в некоторых моделях оно используется как лобовое стекло. Но ни в коем случае как боковое.
Я посигналил и перешел к описанию комфортабельного интерьера – багажника, сидений, карманов, приборной панели; я не упустил ни единой детали, даже вынул и протянул Блюменталю зажигалку, а заодно предложил ему сигарету, чтобы хоть как-то его переубедить, – но он отклонил и это.
– Не курю, спасибо, – проговорил он, посмотрев на меня с такой скукой, что у меня вдруг зародилось подозрение: а к нам ли он вообще шел, может, он тут по ошибке, может, он хотел купить что-то другое, какую-нибудь машину для пришивания пуговиц или радиоаппарат, а теперь вот мнется и не знает, как ему смыться?
– Давайте сделаем пробную поездку, господин Блюменталь, – предложил я наконец, чувствуя себя уже на последнем издыхании.
– Поездку? – переспросил он с таким недоумением, будто я произнес слово «поезд».
– Да, поездку. Надо же вам удостовериться в том, что машина многое может. Она просто стелется по дороге, мчит как по рельсам. Мотор тянет так, словно это не тяжелый кабриолет, а пуховая перина.
– Ох уж эти пробные поездки, – пренебрежительно махнул он рукой, – они ничего не показывают. Все недостатки машины выплывают потом.
Ну разумеется, потом, дьявол ты чугуноголовый, или ты думаешь, я буду тыкать тебя носом в эти недостатки уже теперь? Я закипал от злости.
– Ну, на нет и суда нет, – сказал я, потеряв надежду. Покупать он не хотел, это было ясно.
Но тут он вдруг обернулся и, глядя мне прямо в глаза, тихим голосом, но резко и быстро спросил:
– Сколько стоит машина?
– Семь тысяч марок, – не моргнув глазом ответил я, словно выстрелил из пистолета. Такому, как он, нельзя выказывать и малейшую нерешительность, это я знал. Каждая секунда колебаний обошлась бы в тысячу марок, уж он бы ее выторговал. – Семь тысяч марок чистыми, – повторил я твердым голосом, а про себя подумал: «Предложишь пять – и она твоя».
Однако Блюменталь не предлагал ничего. Он только коротко фыркнул.
– Слишком дорого!
– Ну конечно! – сказал я, прощаясь с последней надеждой.
– Почему «конечно»? – неожиданно спросил Блюменталь с ноткой живого интереса.
– Господин Блюменталь, – ответствовал я, – разве вы встречали в наши дни человека, который реагировал бы на цены иначе?
Он внимательно посмотрел на меня. На лице его мелькнуло что-то вроде улыбки.
– Это верно. И тем не менее цена машины слишком высока.
Я не верил своим ушам. Наконец-то прорезался истинный тон! Тон азартного интереса! Или то был очередной коварный маневр?
В это мгновение в воротах показался какой-то элегантный щеголь. Он вынул из кармана газету, еще раз сличил с ней номер дома и направился ко мне.
– Здесь ли продается «кадиллак»?
Я кивнул и, опешив, уставился на бамбуковую трость и кожаные перчатки пижона.
– Могу я взглянуть на него? – невозмутимо продолжал тот.
– Вот он, – сказал я, – но не будете ли вы так любезны немного подождать, я сейчас занят. Прошу вас, пройдите пока в помещение.
Щеголь некоторое время прислушивался к шуму мотора, придавая своему лицу сначала недовольное, потом все более одобрительное выражение, и наконец дал увести себя в мастерскую.
– Идиот! – зашипел я на него и поспешил вернуться к Блюменталю. – Стоит вам проехаться разок на машине, и вы иначе станете относиться к цене. Можете испытывать ее сколько пожелаете. Если вам сейчас некогда, то я могу заехать за вами вечером, и мы совершим пробную поездку.
Но его мимолетный порыв уже улетучился. Блюменталь снова принял позу по меньшей мере президента певческой ассоциации, изваянного из гранита.
– Ах, оставьте, – сказал он. – Мне пора идти. Если я захочу предпринять пробный выезд, то я ведь смогу позвонить вам.
Я понял, что дальнейшие усилия пока бесполезны. Этого не уговоришь.
– Хорошо, – сказал я. – Но может быть, вы дадите мне свой телефон, чтобы я мог известить вас, если кто-нибудь еще будет интересоваться машиной?
Блюменталь как-то странно посмотрел на меня.
– Интересоваться – еще не значит покупать.
Он вытащил коробку с сигарами и предложил мне. Вдруг выяснилось, что он курит. И даже «Корону» – денег у него, видно, куры не клюют. Но мне это было уже безразлично. Сигару я взял. Он любезно подал мне руку на прощание и ушел. Я смотрел ему вслед, тихо, но основательно чертыхаясь. Потом вернулся в мастерскую.
– Ну как? – встретил меня щеголь по имени Готфрид Ленц. – Каково я все это проделал? Смотрел, смотрел, как ты надрываешься, и решил пособить. Благо Отто, переодевшись, оставил тут свой шикарный костюм! Мигом влезаю в него, выпрыгиваю в окошко и заявляюсь во двор, как заправский покупатель! Ловко, а?
– Бездарно и глупо! – возразил я. – Он хитрее нас с тобой, вместе взятых. Взгляни, какие он курит сигары. Полторы марки штука! Ты спугнул миллиардера.
Готфрид отнял у меня сигару, обнюхал ее и зажег.
– Если я кого и спугнул, то мошенника. Миллиардеры не курят таких сигар. Они курят грошовые.
– Чушь, – сказал я. – Мошенник не станет называть себя Блюменталем. Мошенник представится графом Блюменау или что-нибудь в этом духе.
– Он вернется, – заявил не унывающий, как всегда, Ленц и выдохнул мне в лицо дым моей же сигары.
– Этот не вернется, – сказал я убежденно. – Но где это ты раздобыл бамбуковую трость и перчатки?
– Одолжил. В магазине «Бенн и Ко». У меня там знакомая продавщица. Трость я, пожалуй, себе оставлю. Она мне нравится. – И он с самодовольным видом стал крутить в воздухе толстую палку.
– Готфрид, – сказал я. – Здесь ты гробишь свои таланты. Знаешь что? Шел бы ты в варьете. Вот где тебе место.
– Вам звонили, – сказала Фрида, косоглазая служанка фрау Залевски, когда я днем забежал на минутку домой.
Я обернулся к ней.
– Когда?
– Да с полчаса назад. Какая-то дама.
– И что она сказала?
– Что позвонит еще вечером. Ну так я ей прямо сказала, что толку не будет, что вечерами вас дома не бывает.
Я остолбенел.
– Что? Вы так и сказали? О Господи, научат вас когда-нибудь разговаривать по телефону?
– Я умею разговаривать по телефону, – с напыщенным достоинством произнесла Фрида. – А по вечерам вас дома действительно почти никогда не бывает.
– Не ваше дело! – в сердцах крикнул я. – В другой раз вы еще расскажете, что у меня носки дырявые.
– Могу рассказать и про это, – обдала меня ядом Фрида, зыркнув красноватыми, воспаленными глазами. Мы давно с ней враждовали.
У меня чесались руки ткнуть ее физиономией в кастрюлю с супом, но вместо этого, совладав с собой, я сунул ей марку и спросил примирительным тоном:
– Эта дама не назвала себя?
– Не-а, – ответила Фрида.
– А голос у нее какой? Такой глуховатый и низкий, вроде как слегка охрипший, да?
– Да не помню я, – сказала Фрида с таким равнодушием, будто я и не давал ей марки.
– Какое миленькое у вас колечко, право, восхитительное, – вставил я. – Ну подумайте хорошенько, может, все-таки вспомните, а?
– Не-а, – ответила Фрида, пыша самодовольным злорадством.
– Ну так пойди и повесься, метелка чертова! – выпалил я и хлопнул дверью.
Вечером, ровно в шесть, я был уже дома. Когда я отпер дверь, то застал необычную картину. В коридоре вокруг фрау Бендер, ясельной сестрички, столпились все женщины нашей квартиры.
– Идите-ка сюда, – позвала меня фрау Залевски.
Причиной сборища был весь увитый лентами полугодовалый младенец. Фрау Бендер привезла его из своего пансиона в коляске. Ребенок был самый обыкновенный, но дамы тетешкали его с таким безумным восторгом, будто это было первое дитя, появившееся на белый свет. Они и ворковали, и щелкали пальцами над личиком маленького существа, и делали губы бантиком. Даже Эрна Бениг в своем кимоно с драконами принимала участие в этой оргии платонического изъявления материнства.
– Ну разве не прелесть? – спросила меня фрау Залевски с умилением.
– Об этом можно будет судить лет через двадцать – тридцать, – ответил я и покосился на телефон. Оставалось надеяться, что он не зазвонит сейчас, когда тут такое столпотворение.
– Да вы посмотрите на него хорошенько, – призвала меня фрау Хассе.
Я посмотрел. Младенец как младенец. Ничего особенного в нем я не обнаружил. Разве что поразительно крохотные ручки. И потом, конечно, это странное чувство – что и сам ты был когда-то таким.
– Несчастный червячок, – сказал я, – знал бы он, что ему предстоит. На какую войну он поспеет – вот что интересно.
– Экий чурбан! – воскликнула фрау Залевски. – Неужели у вас нет никаких чувств?
– Напротив, их у меня превеликое множество, – возразил я. – Иначе у меня не было бы таких мыслей. – С этими словами я ретировался в свою комнату.
Минут через десять раздался телефонный звонок. Услыхав свое имя, я вышел. Так и есть, все общество еще здесь! Не шелохнулось оно и тогда, когда я, прижав трубку к уху, стал слушать, как Патриция Хольман своим характерным голосом благодарит меня за цветы. В эту минуту младенец, у которого ума, вероятно, было больше, чем у всех остальных, и которому надоело это обезьянье кривлянье, внезапно начал реветь.
– Простите, я ничего не слышу, – отчаянным голосом сказал я в трубку, – тут вопит младенец, но это не мой.
Чтобы успокоить орущее существо, дамы зашипели, как клубок змей. Но достигли только того, что он заорал еще пуще. Лишь теперь я догадался, что ребенок был и впрямь необыкновенный: легкие у него, должно быть, доставали до бедер, иначе как объяснить, откуда такой оглушительный голос. Я был в затруднительном положении: глазами метал молнии в скопление непутевых мамаш, ртом лепетал что-то любезное в трубку – от темени и до носа я был воплощением грозы, от носа до подбородка – сияющим майским полднем. Чудо, как это в таких обстоятельствах мне удалось договориться о встрече на следующий вечер.
– Вам надо установить здесь звуконепроницаемую телефонную будку, – сказал я хозяйке.
Но она была не из тех, кто лезет за словом в карман.
– Что так? – спросила она, сверкая глазами. – Неужели приходится так много скрывать?
Я промолчал и стушевался. С возбужденными материнскими чувствами не поспоришь. За них горой стоит мораль всего мира.
На вечер у нас была назначена встреча у Готфрида. Перекусив в небольшой забегаловке, я пошел к нему. По дороге купил в одном из самых изысканных магазинов мужской одежды роскошный новый галстук. Я все еще был потрясен тем, как легко все налаживалось, и дал себе обет быть завтра серьезным, как директор похоронной конторы.
Логово Готфрида было своего рода достопримечательностью. Оно было сплошь увешано сувенирами, привезенными из странствий по Южной Америке. На стенах пестрые соломенные циновки, маски, высушенный человеческий череп, глиняные кувшины причудливых форм, копья и главное сокровище – великолепные фотографии, занимавшие целую стену: индианки и креолки, красивые, шоколадные, податливые зверьки, необычайно грациозные и небрежные.
Кроме Ленца и Кестера, там были еще Браумюллер и Грау. Тео Браумюллер, примостившись на валике дивана и выставив обгоревшую на солнце медную плешь, с воодушевлением разглядывал Готфридовы фотографии. Он был шофером-испытателем на одном автозаводе и с давних пор дружил с Кестером. Шестого он примет участие в тех самых гонках, на которые Отто заявил нашего «Карла».
Фердинанд Грау сидел за столом обвалившейся глыбой, он был заметно пьян. Увидев меня, он простер свою огромную лапищу и притянул меня к себе.
– Робби, – сказал он хрипло, – ты-то что делаешь среди нас, пропащих? Что ты здесь потерял? Уходи, спасайся. Ты еще можешь спастись!
Я посмотрел на Ленца. Тот подмигнул мне.
– Фердинанд сильно на взводе. Он уже второй день пропивает одну дорогую покойницу. Продал портрет и сразу получил деньги.
Фердинанд Грау был художником. При этом, однако, он давно умер бы от голода, если б не специализировался на портретах усопших, которые он по заказу скорбящих родственников писал с невероятным сходством. Этим он жил – и даже весьма неплохо. А его замечательные пейзажи никто не покупал. Оттого-то в его разговорах преобладала пессимистическая тональность.
– На сей раз трактирщик, Робби, – сказал он, – трактирщик, у которого померла тетка с капиталом, помещенным в уксус и масло. – Он передернулся. – Жуть!
– Послушай, Фердинанд, – заметил Ленц, – зачем ты бранишься? Ты ведь кормишься одним из самых прекрасных человеческих свойств – почтительностью.
– Глупости, – возразил Фердинанд, – я кормлюсь чувством вины. Человек чувствует себя виноватым перед ближним – вот и вся почтительность. Хочет оправдаться за то, что причинил или хотел причинить покойнику при его жизни. – Он не спеша погладил свою сверкающую лысину. – Нетрудно себе представить, сколько раз трактирщик желал своей тетке, чтоб она сдохла, – зато теперь он заказывает ее портрет самых нежных тонов и вешает его над диваном. Теперь он души в ней не чает. Почтительность! Человек вспоминает о скудном запасце своих добродетелей тогда, когда уже поздно. И приходит в умиление, думая о том, каким он мог быть благородным, и считает себя воплощенной порядочностью. Порядочность, доброта, благопристойность… – Он махнул своей огромной ручищей. – Все это хорошо у других – тогда легче водить их за нос.
Ленц ухмыльнулся:
– Ты сотрясаешь устои людского общежития, Фердинанд!
– Устои людского общежития – это корысть, страх и продажность, – парировал Грау. – Человек зол, но любит добро, когда его делают другие. – Он протянул свой стакан Ленцу. – Ну вот, налей-ка мне теперь и кончай травить весь вечер баланду, а то ты никому не даешь сказать ни словечка.
Я перелез через диван поближе к Кестеру. Меня вдруг осенила одна идея.
– Ты должен выручить меня, Отто. Завтра вечером мне нужен «кадиллак».
Браумюллер оторвался от усердного изучения достоинств одной скудно одетой танцовщицы-креолки.
– А ты что, уже научился поворачивать? – поинтересовался он. – До сих пор я думал, что ты умеешь ездить только по прямой, да и то если кто-нибудь другой держит баранку.
– Помалкивай, Тео, – ответил я, – шестого числа на гонках мы из тебя сделаем котлету.
Браумюллер захлебнулся от хохота.
– Ну так как, Отто? – спросил я, весь напрягшись.
– Машина не застрахована, Робби, – сказал Кестер.
– Я буду ползти, как улитка, и дудеть, как автобус в деревне. Да и всей езды-то будет несколько километров по городу.
От улыбки глаза Отто превратились в узенькие щелки.
– Ладно, Робби, я не против.
– Не к новому ли галстуку понадобилась тебе машина? – спросил подошедший Ленц.
– Заткнись! – сказал я, пытаясь отодвинуть его в сторону.
Но он не отставал.
– Ну-ка, ну-ка, детка! Дай поглядеть!
Он пощупал пальцами шелк.
– Блеск! Наше дитя в роли жиголо. Да ты никак собрался на смотрины невесты?
– Отстань, ты, гений перевоплощения. Сегодня тебе не удастся меня разозлить, – сказал я.
– На смотрины? – поднял голову Фердинанд Грау. – А почему бы ему и не присмотреть себе невесту? – Он явно оживился и повернулся ко мне. – Действуй, Робби. У тебя еще есть все для этого. То бишь наивность. А именно она-то и надобна для любви. Храни ее. Она дар Божий. Утратив – не вернешь никогда.
– Не слишком-то развешивай уши, малыш, – хмыкнул Ленц. – Помни: дураком родиться – это еще не позор. Зато дураком умереть…
– Помолчи, Готфрид. – Грау сгреб его своей ручищей. – Не о тебе ведь речь, ты, обозный романтик. Тебя не жалко.
– Ну-ну, интересно послушать, – сказал Ленц. – Давай уж, облегчи душу признанием.
– Ты пустозвон, – заявил Грау, – пустозвон и краснобай.
– Как и все мы, – ухмыльнулся Ленц. – Ведь мы живем иллюзиями и долгами.
– Истинно так, – сказал Грау, оглядывая нас всех по очереди из-под своих кустистых бровей. – Иллюзии достались нам от прошлого, а долги идут в счет будущего. – Затем он снова обратился ко мне: – Я говорил о наивности, Робби. Только завистники называют ее глупостью. Не обижайся на них. Наивность – это дар, а не недостаток.
Ленц хотел было что-то вставить, но Фердинанд не дал ему говорить.
– Ты ведь понимаешь, что я имею в виду. Простую душу, еще не изглоданную скепсисом и всей этой интеллигентской заумью. Парцифаль был простофиля. Будь он умником, не добраться бы ему до Святого Грааля. В жизни побеждают люди не мудрствующие, все же прочие видят слишком много препятствий и теряют уверенность, не успев ничего начать. В трудные времена такая простота – неоценимое благо, она как палочка-выручалочка спасает от опасностей, которые прямо-таки засасывают умника!
Он сделал глоток и посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, этими осколками неба на иссеченном морщинами лице.
– Не надо гоняться за избыточным знанием, Робби! Чем меньше знаешь, тем проще жить. Знания делают человека свободным, но и несчастным… Так что давай-ка выпьем с тобой за простоту, наивность и за все, что из нее вытекает, – за любовь, веру в будущее, мечты о счастье; за ее величество глупость, за потерянный рай…
Внезапно он отключился и снова ушел в себя и свое опьянение, возвышаясь над всеми массивной громадой, словно одинокий холм неприступной тоски. Человек он был конченый, и он знал, что ему уже не подняться. Обитал он в своей просторной мастерской, сожительствуя с экономкой. Это была властная, грубая женщина, а Грау, напротив, несмотря на свое могучее тело, был впечатлителен и нестоек. Он никак не мог порвать с ней, да ему, видно, все было безразлично. Как-никак сорок два стукнуло.
И хотя я понимал, что виной всему опьянение, все же наблюдать его в такой неприкаянности было и странно, и тяжело, и даже слегка неприятно. С нами он бывал не часто, все больше пил в одиночку у себя в мастерской. А эта дорожка быстро идет по наклонной.
По лицу его промелькнула улыбка. Он сунул мне в руку стакан.
– Пей, Робби. И спасайся. Помни о том, что я тебе сказал.
– Хорошо, Фердинанд.
Ленц завел патефон. У него была куча пластинок с негритянскими песнями, и некоторые из них он поставил сегодня – о Миссисипи, о собирателях хлопка, о знойных ночах на берегах голубых тропических рек.
VI
Патриция Хольман жила в большом желтом доме-коробке, отделенном от проезжей части улицы узкой полоской газона. У подъезда стоял фонарь. Я остановил «кадиллак» прямо под ним. В неверном свете фонаря машина походила на мощного слона, кожа которого отливала жирным черным глянцем.
Я продолжил усовершенствования своего гардероба: помимо галстука, купил еще перчатки и шляпу, кроме того, на мне было пальто Ленца – великолепное серое пальто из тонкого шотландского твида. Таким оснащением я хотел развеять воспоминания о нашем первом пьяном вечере.
Я посигналил. Сразу же, подобно ракете, загорелись окна всех пяти этажей лестничной клетки. Загудел лифт. Я следил за ним, как за волшебной бадьей, спускающейся с неба. Патриция Хольман открыла дверь и легко сбежала по ступенькам. На ней была короткая бежевая куртка, отороченная мехом, и узкая коричневая юбка.
– Хэлло! – Она протянула мне руку. – Я так рада куда-нибудь выбраться. Весь день просидела дома.
Мне понравилось ее рукопожатие – более сильное, чем можно было ожидать. Ненавижу людей, вяло сующих свою ладошку, как дохлую рыбу.
– Что же вы сразу мне не сказали, что весь день сидите дома? Я бы заехал за вами еще днем.
– Разве у вас так много времени?
– Не могу этого сказать. Но я бы освободился.
Она сделала глубокий вдох.
– Какой чудесный воздух! Пахнет весной.
– Если хотите, мы можем дышать воздухом сколько угодно, – сказал я, – можем поехать за город, в лес, на природу, я на всякий случай прихватил с собой машину. – При этом я с такой небрежностью показал на «кадиллак», будто это был какой-нибудь развалюха «форд».
– «Кадиллак»? – Она посмотрела на меня с изумлением. – Ваш собственный?
– Сегодня вечером да. А вообще-то он принадлежит нашей мастерской. Мы немало с ним повозились и теперь надеемся сорвать немалый куш.
Я открыл дверцу.
– Не поехать ли нам сначала в «Лозу» и поужинать? Как вы думаете?
– Поужинать было бы неплохо, но почему непременно в «Лозе»?
Я был несколько озадачен. Ведь «Лоза» – это единственный приличный ресторан из тех, что я знал.
– По правде говоря, – сказал я, – я не знаю ничего лучшего. Кроме того, мне казалось, что «кадиллак» нас к чему-то обязывает.
Она рассмеялась.
– В «Лозе» наверняка чопорная, скучная публика. Нет, лучше в другое место!
Я растерялся. Грезы о респектабельности рассеивались, как дым.
– Тогда предложите что-нибудь вы, – сказал я. – Заведения, которые посещаю я, все как на подбор простецкого пошиба. Они не для вас.
– Почему вы так решили?
– Так мне кажется…
Она быстро взглянула на меня.
– Давайте все же попробуем.
– Хорошо. – Я решился круто изменить программу. – Раз вы не из пугливых, то у меня есть кое-что на примете. Едем к Альфонсу.
– Альфонс – это уже звучит! – сказала она. – И вряд ли меня сегодня что-нибудь испугает.
– Альфонс – хозяин пивной, – сказал я. – Большой друг Ленца.
Она засмеялась.
– Похоже, у Ленца повсюду друзья?
Я кивнул:
– Он легко их заводит. Вы ведь видели, как это было с Биндингом.
– Да, Бог свидетель, – заметила она. – Подружились они молниеносно.
Мы поехали.
Альфонс был увалень и флегматик. Выпирающие скулы. Маленькие глаза. Закатанные рукава рубашки. Руки как у гориллы. Он самолично вышвыривал из своего заведения всякого, кто приходился ему не по вкусу. Даже членов патриотического спортивного общества. Для особо трудных случаев он держал молоток под стойкой. Пивная была расположена очень удобно – рядом с больницей, так что на транспорт тратиться не приходилось.
Он вытер светлый еловый стол своей волосатой лапой.
– Пиво? – спросил он.
– Водки и чего-нибудь на закуску, – сказал я.
– А для дамы? – спросил Альфонс.
– Дама тоже желает водки, – сказала Патриция Хольман.
– Крепко, весьма, – промолвил Альфонс. – Есть свиные ребрышки с кислой капустой.
– Свинью сам заколол? – спросил я.
– Натурально.
– Но даме надо бы предложить чего-нибудь полегче, Альфонс.
– Вы шутите, – возразил Альфонс. – Сначала взгляните на мои ребрышки.
Он велел кельнеру показать нам порцию.
– Великолепный был свинтус, – сказал он. – С медалями. Два первых приза.
– Ну кто ж тогда устоит? – заявила, к моему удивлению, Патриция Хольман уверенным тоном постоянной посетительницы этого кабака.
– Стало быть, две порции? – подмигнув, спросил Альфонс.
Она кивнула.
– Прекрасно! Пойду выберу сам.
Он отправился на кухню.
– Беру назад свои слова, – сказал я, – я напрасно сомневался, что вас можно вести сюда. Вы мгновенно покорили Альфонса. Сам выбирает блюда он только для завсегдатаев.
Альфонс вернулся.
– Добавил вам еще колбасы.
– Неплохая идея, – сказал я.
Альфонс к нам явно благоволил. Немедленно явилась водка. И три стопки. Одна – для Альфонса.
– Что ж, будем здоровы! – сказал он. – За то, чтобы наши дети заимели богатых родителей.
Мы выпили залпом. Девушка не пригубила водку, а выпила, как и мы.
– Крепко, весьма, – заметил Альфонс и прокосолапил к стойке.
– Вам понравилась водка? – спросил я.
Она покачала головой:
– Крепковата, конечно. Но уж надо было держать марку перед Альфонсом.
Ребрышки были что надо. Я съел две большие порции, да и Патриция Хольман преуспела значительно больше, чем я мог предположить. Мне страшно нравилась ее манера держаться по-свойски, чувствовать себя запросто и в пивнушке. Без всякого жеманства она выпила и вторую стопку с Альфонсом. Тот незаметно подмигивал мне в знак одобрения. А он был знаток. Не столько в вопросах красоты или там культуры, но в главном – в том, чего человек стоил как таковой.
– Если вам повезет, вы узнаете и слабую струнку Альфонса, – сказал я.
– Охотно, – сказала она. – Да только похоже, что слабостей у него нет.
– Есть! – Я показал на столик рядом со стойкой. – Вот она!
– Что именно? Патефон?
– Нет, не патефон. Хоровое пение! У него слабость к хоровому пению. Он не признает ни легкой, ни классической музыки, только хоры – мужские, смешанные, всякие. Вон та куча пластинок – это сплошные хоры. А вот и он сам.