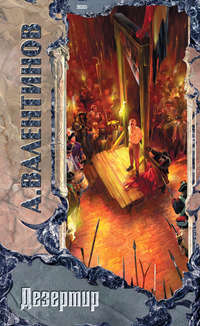Полная версия
Небеса ликуют
И вновь мне стало стыдно. Голодный эмигрант, не знающий, где пообедать, всей душой готов мне помочь. Просто так, без всякой выгоды.
Но мне нужна шпага!
Его шпага.
– Время и место – на их усмотрение. – Я махнул рукой и присел к столу. – Но, поскольку вызвали меня, выбор оружия за нами.
Он кивнул, лицо его сразу же стало серьезным.
– Верно, мой друг! Посему вы должны крепко подумать. Parbleu! Знать бы, шпага или…
– Сарбакан.
«Кое-что», только что изъятое из моей дорожной сумы, с легким стуком легло на стол. Голубые глаза достойного шевалье моргнули, вначале непонимающе, затем растерянно.
– Простите, это…
– Сарбакан, – подтвердил я. – Самый настоящий.
Дю Бартас покосился на стол, отодвинулся, вновь всмотрелся.
– Но ведь это же… дудочка!
То, что лежало перед ним, и в самом деле походило на музыкальный инструмент. Там, откуда я прибыл, братья часто брали с собой флейты, когда собирались в Прохладный Лес. На реке Парагвай любят музыку. Но у сарбакана особая мелодия.
– Сюда действительно дуют, – согласился я, беря со стола немудреное приспособление. – Дуть надо сильно и резко. Посмотрите на ставни. Там, наверху, пятно.
Шевалье, явно сбитый с толку, повернулся, вгляделся, вновь дернул ресницами.
– Там действительно пятно, мой друг, но…
Я поднес сарбакан к губам.
Дуть надо сильно.
Резко.
Звук был почти незаметен. Во всяком случае, для дю Бартаса. Прошла минута, затем другая…
– Я вижу пятно, – растерянно проговорил шевалье. – Вижу! Однако не сочтите за труд пояснить…
– Подойдите ближе, – посоветовал я. – Только, ради Господа, не трогайте руками!
Я ждал, невольно вспоминая далекий день, когда мне самому довелось увидеть, что может эта «дудочка». Только я видел ее в деле. Двое бандерайтов, пытавшихся напасть на нашу миссию. Точнее, их трупы. Скорченные, с посиневшими лицами.
– Да тут колючка!
– Не трогайте! – повторил я, хватая со стола тряпку. – Там яд! Очень сильный яд!
* * *Трудно убить стрелой обезьяну. И обычной колючкой трудно – раненый зверь уходит в чащу, скрываясь в лесной глуши. А кроме обезьяны, есть еще ягуары, удавы, есть бандерайты и копьеносцы-ланца. Клыки, когти, стальные мускулы, мушкеты, пики. А против этого – колючки. Маленькие колючки, которые легко собрать на любой пальме.
Колючки – и яд.
Тот, кто случайно выжил, рассказывал, что почти не чувствовал боли. Просто сводит мускулы. Просто холодеют руки. Просто…
Но таких, выживших, очень мало. Я видел одного – неподвижно лежавшего, не способного даже двинуть пальцем.
Благородный идальго Хуан Диас де Солис, железнобокий конкистадор, первым увидевший мутные воды Парагвая, говорят, смеялся над голыми дикарями, вооруженными деревянными «дудочками».
Колючка попала ему в щеку.
* * *Когда шевалье все-таки решился взять сарбакан в руки, его лицо странно скривилось. Я понимал его – сам был таким.
– И этим у вас воюют? Какой ужас!
Я не спорил – ужас. Дикие кровожадные «инфлиес»[12], протыкающие ядовитыми колючками благородных «донов», несущих в Прохладный Лес блага кастильской культуры. Троглодиты. Монстры.
Дю Бартас покосился на тряпку, под которой лежала вынутая мною колючка, потер лоб, задумался.
– По зрелом размышлении, а также учитывая, что этот, гм-м, сарбакан, без сомнения, является оружием… Однако же, друг мой, насколько сие оружие благородно?
Я с трудом смог удержаться от улыбки.
– Касики, сиречь вожди племен, кои пользуются этими «дудочками», еще полвека назад были возведены Его Католическим Величеством во дворянство. Так что в Новом Свете – это оружие рыцарей.
– Правда? Тогда конечно. А если что, мы скажем…
– Что маркиз струсил, – усмехнулся я. – Покажите синьору Монтечело сарбакан, пусть закажет такой же у краснодеревщика. А колючек у меня хватит на всех. Стреляемся с десяти шагов.
– Решено! – Его глаза блеснули, широкая сильная ладонь ударила по столу. – Вот это будет дуэль!..
– Vieux diable! – закончил я, с запозданием сообразив, что богохульствую.
Mea culpa!
4
– Рад вас видеть, сьер Гарсиласио.
– К сожалению, не могу сказать того же.
Он изменился за эти сутки. Темные пятна легли под глазами, тонкая кожа щек казалась серой, уголки губ опустились вниз.
Изменилась и камера. Табурет стал повыше, из-за чего сьер римский доктор был вынужден то и дело дергаться, пытаясь достать ногами до пола. Бесполезно! В том-то и задумка: неудобный табурет, две яркие лампы у самых глаз и, конечно, маленький человечек в капюшоне, удобно устроившийся рядом.
– Я ждал вас в полдень.
С ответом я не спешил. Да, он ждал меня в полдень, сейчас уже восемь, значит, со времени нашей встречи прошло больше суток. Для человека, сидящего на неудобном табурете, – много. Много – но еще недостаточно.
Недостаточно, чтобы увидеть Ад.
– Сьер, я хочу у вас спросить! Сьер!..
Да, и голос уже другой. Гордыни явно поубавилось.
– Простите, я… я не помню, как вас зовут. Сьер, я хочу спросить…
Третья лампа, такая же яркая, стояла передо мной. На этот раз она освещала страницы толстого тома, переплетенного в грубую кожу. Вчера я читал экстракт, сегодня – само дело. Мелкое, рядовое дело о ереси и распространении заведомо вредоносных учений. К счастью, неведомый мне писарь не экономил бумагу – буквы были размером с тараканов. Тех самых, которых столь добросовестно изучал брат Паоло.
– Сьер! Почему вы?.. Извините, забыл ваше имя…
Да, спеси стало поменьше. Уже не требует – просит. Но спешить некуда, можно пока полистать протоколы. На следствии сьер Гарсиласио де ла Риверо был очень разговорчив. Тоже метода – и очень удобная: болтать о чем попало, старательно избегая важного. Вот, например, здесь… и здесь…
Я поднял взгляд – его глаза были закрыты. Это заметил не только я. Маленький человечек бесшумно встал, легко толкнул парня в плечо.
– А?! – В глазах плавала боль. – Опять? Сьер… Простите, сьер, они мне не дают спать! Я не понимаю! Я требую…
Я ошибся. Он еще требует.
Закладка легла на нужную страницу. Вот с этого и начнем. Но не сейчас. После.
Когда сьер Гарсиласио уже ничего не станет требовать.
– Я действительно опоздал, извините. Это первое. Теперь второе. Вы не забыли мое имя, я вам его просто не называл…
Он подался вперед, рискуя упасть с табурета, но я покачал головой. Рано! Даже имя мое называть рано. С именем я сразу стану для него человеком, а это лишнее. Я – Черный Херувим. «Как содрогнулся я, великий Боже, когда меня он ухватил…»
– Теперь третье, сьер де ла Риверо. Спать вам не дают по моему приказу. Для вас началась Вегилия.
В глазах – испуг, затем – отчаянная попытка понять, осмыслить. Да, он еще думает. Я пришел слишком рано.
– Вегилия? Это… бдение по-латыни? Но почему? Я же не смогу ничего соображать!
Да, не сможет. И не только соображать.
– Я хочу, чтобы вы попали в Рай, сьер Гарсиласио. Но для этого вам надо сперва увидеть Ад.
Тонкие губы дернулись, сжались.
– Кажется… Кажется, вы говорили об этом прошлый раз. Я подумал…
– Что это поэтический образ? Напрасно.
Я встал, зябко повел плечами. Черный плащ с капюшоном весь пропитался сыростью.
Февраль!
– Хотите узнать, что я имел в виду? Извольте!
Да, я пришел рано. Но время нашей встречи можно использовать с толком. Пусть подумает – пока еще способен.
– Начну издалека. В одной умной книге описан способ укрепления души, идущей по пути Просветления. Это, конечно, нелегко. Требуются две недели – в полной тишине, в темноте, в одиночестве…
Лет двадцать назад мне так же рассказывали о Просветлении. Только было это не в сырых подвалах Санта Мария сопра Минерва.
– Первые несколько дней ты вспоминаешь себя, свои дела и мысли: грешные, безгрешные – все. Это очень трудно – вспоминать все, не делая исключения. Затем ты начинаешь думать о тех, кто был праведнее тебя, кто страдал за Веру и Святую Церковь…
О тех, кто был праведнее. Как отец Пинто. Он умер, прибитый железными клиньями к стволу кебрачо, еще одно острие вошло в грудь, прижимая к его сердцу маленький томик Евангелия. Умер, а прочие живут. Такие, как маркиз Мисирилли. Как этот еретик. Как я…
– Затем ты вспоминаешь страдания Господа. Это тоже очень нелегко – вспомнить все, деталь за деталью: бич, бьющий по плечам, плевки в лицо, гвозди в запястьях. Вспоминаешь – и начинаешь Видеть…
…Поначалу это было просто невыносимо. Многие не выдерживали, стучались в закрытые двери, рвались туда, где ярко светило солнце…
– А потом ты начинаешь представлять себе Последнюю Битву: Божий Град Иерусалим, окруженный войском праведников в белых одеждах, – и Вавилон, оплот Сатаны, восседающего на пылающем темным огнем троне…
– Игнатий Лойола. – Голос сьера Гарсиласио звучал хрипло, тяжело. – Игнатий Лойола, «Exercitia spirituaia».
Я взглянул на него не без любопытства.
– Читали, сьер де Риверо?
– Читал…
Он вновь закрыл глаза – и новый толчок заставил парня очнуться. Человечек в капюшоне бесшумно опустился на табурет. Я вспомнил: таких, как он, называют Клепсидрами – Будильниками.
– Ну что ж, тогда нам будет легче разговаривать.
Негромкий смех был ответом. Сьер Гарсиласио закрыл глаза, откинулся назад.
– Так вы еще ко всему и иезуит! Странно, что я с самого начала не догадался, что вы из Общества.
Будильник был начеку. Парень застонал, открыл глаза.
– Компания Иисуса… Жаль, вашего Лойолу не сожгли еще тогда, в Толедо!
– В Саламанке, – тут же поправил я. – И разберемся с терминами. Слово «Общество» – «Compania», сьер еретик, как вы можете догадаться, испанское. Оно означает не кружок собутыльников, а военный отряд. Мы – Полк Иисусов, Его Войско. Но вернемся к «Духовным упражнениям»…
– Вы тоже видели все это, сьер иезуит? Иерусалим, Вавилон?
Неужели это ему интересно? Если так, то парень крепче, чем мне казалось.
– Видел. И, признаться, мои видения озадачили наставников нашего коллегиума. На Сатане был зеленый наряд с желтыми пятнами, на голове – берет, его войско сидело на железных повозках, которые двигались сами по себе, без лошадей и мулов, а в небе летали птицы – тоже стальные. Над Иерусалимом же реял стяг с шестиконечной звездой, а рядом с ним другой – полосатый, с маленькими звездочками в углу.
Я невольно улыбнулся. Тогда меня даже отправили к лекарю. Тот долго качал головой, после чего велел мне побольше спать. Но во сне я вновь видел все это: железные повозки, ревущие стальные птицы, острые носы крылатых стрел, направленных прямо в голубое безоблачное небо.
– И только потом ты начинаешь видеть Рай…
Я ждал нового вопроса, но его не последовало. Впрочем, я бы не стал отвечать. Про такое можно рассказать только на исповеди.
– Подобные духовные упражнения, сьер Гарсиласио, полезны всем добрым христианам. А тем, кто оступился, в особенности.
Он долго молчал. Мне даже показалось, что парень заснул – с открытыми глазами. Но вот кончики губ дрогнули.
– Я уже все рассказал. Все! Неужели вы думаете, что я стану читать…
– А это и ни к чему.
Еретик, посмевший поднять руку на Мать-Церковь, не станет умиляться при виде страданий Господа. Себя он любит больше. Что ж, пусть пожалеет о себе, любимом.
– Для этого и придумана Великая Вегилия, сьер Гарсиласио. Три-четыре ночи без сна – и Сатана, которому вы служите, сам придет к вам. Ваш Ад будет страшен. А вот увидите ли вы Рай, зависит уже от вас. Ну, и от меня в какой-то мере.
– Я все равно ничего вам не скажу!
В его голосе слышалось упрямство и одновременно – страх.
– «В боренье с плотью дух всегда сильней», – усмехнулся я, вставая. – Докажите! Я зайду к вам через пару деньков…
– Погодите! – Он попытался вскочить, но Будильник тут же оказался рядом. – Вы!.. Вы не имеете права! Пытайте меня! Пусть даже дыба, велья!.. Я уже все сказал! Все!
Велья? Лучше бы ему не поминать такое. Этот мальчишка – не Фома Колоколец. На велье он сказал бы все, оговорил бы родного отца, братьев, Господа Бога вкупе с Мартином Лютером. Но мне не нужна его боль.
– Вы, кажется, поклонник Ноланца, сьер Гарсиласио? Ну так докажите это. «Когда, судьба, я вознесусь туда, где мне блаженство дверь свою откроет…». Помните?
Он не помнил. Точнее, просто не знал. Наверно, из всего Бруно сьер еретик изволил прочитать только «Тайну Пегаса».
– У него превосходные стихи. Пусть они вас слегка подбодрят. Это вам понадобится.
Я прикрыл глаза, вспоминая. Много лет назад, когда я впервые ступил на неровный булыжник Campo di Fiori, эти строки не выходили из головы. Я словно слышал холодный, чуть презрительный голос Великого Еретика, говорящего со мной сквозь вечность. Голос из Ада, из его черных ледяных глубин.
Когда, судьба, я вознесусь туда,Где мне блаженство дверь свою откроет,Где красота свои чертоги строит,Где от скорбей избавлюсь навсегда?Как дряблым членам избежать стыда?Кто в изможденном теле жизнь утроит?В боренье с плотью дух всегда сильней,Когда слепцом не следует за ней!И если цели у него высоки,И к ним ведет его надежный шаг,И ищет он единое из благ,Которому дано целить пороки, —Тогда свое он счастье заслужил,Затем, что ведал, для чего он жил[13].Он ведал, для чего жил, Бруно Ноланец, сатанист и гений, умевший смотреть сквозь хрустальную сферу Небес. Но этот мальчишка – не ему чета. Ноланца не смирили ни годы, ни пытки. Этому же хватит трех дней в компании с Будильниками. И он забудет о гордыне.
Как труп.
Как топор дровосека в умелых руках.
В моих руках.
5
Серый мокрый гравий под ногами, такое же серое небо над головой.
Вечер…
Ранний зимний вечер, обломки колонн, неровные, покрытые еле заметными капельками влаги, разбитый мраморный лик, бессмысленно пялящий пустые глаза…
Форум.
Сердце Великого Рима.
Я оглянулся, узнавая. Когда наставник, падре Масселино, в первый раз привел нас сюда, я почувствовал удивление – и обиду. И это Великий Рим? Город Цезаря и Цицерона, Столица Мира? Грязный пустырь, покрытый серыми обломками? Конечно, я знал, что с той поры прошла тысяча лет, но разве я мог тогда понять, что такое тысяча лет? Десять веков! Десять! А эти серые колонны все еще стоят.
Странно, разговор с этим мальчишкой стоил мне больше, чем думалось…
Падре Масселино, кажется, понял и принялся объяснять, каким был Форум раньше, за десять веков до того, как мои детские башмачки ступили на этот гравий. Золото, зеленоватый мрамор, ровный торжественный марш коринфских колонн, надменные бронзовые боги на постаментах. Они не знали меры в своей гордыне, эти язычники, думавшие, что их Рим действительно Вечный.
Много позже, глядя на руины дворца Сыновей Солнца на околице Тринидада, я все время вспоминал Форум. Инки тоже мнили себя владыками Вселенной. Прошел всего век, но высокая трава уже покрыла их города, и дерево омбу растет посреди тронного зала.
Тогда, в детстве, я честно пытался представить то, о чем рассказывал наставник. Эти потрескавшиеся ступени – святилище Сатурна, стена, грозящая рухнуть в любой миг, – храм Кастора и Поллукса, звездных Близнецов… Не получалось. Камни оставались камнями – пыльными, никому не нужными, замолчавшими навеки.
И все-таки что-то меня расстроило. Конечно, не сам сьер Гарсиласио. В конце концов, я спасаю не только его бессмертную душу, но и жизнь. Этого он еще не знает, да и ни к чему ему это знать.
Тогда что?
Я поддал ногой дно глиняного кувшина и вздрогнул от легкого стука. Я знаю ответ. Знаю – и боюсь себе признаться. Боюсь, потому что вспомнил…
Я никогда не знал своего отца. Он умер от ран на чужбине, когда я еще не родился. И я не любил его, бросившего мать ради никому не нужной славы и горсти серебра.
Я – Постум.
Посмертник.
Потом были наставники, учителя, приятели. Даже друзья были. Был Станислав Арцишевский, Бешеный Стась, единственный земляк на тысячи миль вокруг.
Были. Но отца уже не было.
Мне исполнилось пятнадцать, когда я впервые вдохнул влажный воздух Гуаиры. Мне было страшно – и одиноко. Илочечонк попал в Прохладный Лес. Лес, в котором люди были порою страшнее ягуаров.
Отец Мигель Пинто…
Я так и называл его – Отец, и не только потому, что он был коадъюктором, а я только-только принял третий обет.
Отец… Я-Та – как звали его гуарани.
Тот, кто стал отцом сироте Илочечонку.
Странно, ведь тогда ему еще не было и тридцати.
Я мотнул головой, прогоняя непрошеные воспоминания. Непрошеные, ненужные. Отец Мигель Пинто навеки остался со своими сыновьями среди Прохладного Леса. И только Илочечонк, его любимый сын, поспешил уехать от еще свежей могилы.
Земля на могиле была желтой – как тибрская вода.
И мне нет прощения!
Я оглянулся, словно кто-то, скрывающийся за серыми колоннами, мог подслушать, догадаться, – и тут же горько усмехнулся. Конечно, нет! На грязном пустыре, бывшем когда-то сердцем Вселенной, никого нет. Да и кому нужен одинокий чудак в модном амстердамском плаще и нелепой шляпе? Напрасно я забрел сюда!
Напрасно!
И совсем напрасно вспоминаю то, что мне велено забыть.
Илочечонк, сын ягуара, не виноват.
Ни в чем!
Отец Мигель Пинто, провинциал Гуаиры, принял смерть за дело Христово, выполнив свой долг до конца.
И я тоже выполняю свой долг.
А долг – это приказ. Приказ, которому я послушен.
Как труп.
Как топор дровосека.
6
– Топоры-ножи-ножницы-сечки! Точу-вострю-полирую!
Я невольно оглянулся – здоровенный чернобородый детина в рваной куртке и такой же шляпе лихо крутил ножной привод, легкими движениями поднося к вертящемуся точилу огромный нож. Здесь, у входа в гостиницу, вечно крутится всякий люд: зеленщики и возчики поутру, разносчики и торговцы – ближе к полудню. Кажется, настал час точильщиков.
– Вострю-полирую! Эй, синьор, а не затупилась ли у вас шпага?
Лицо точильщика тонуло в вечерней тени. Рукам повезло больше – на них как раз падал свет из окна. Я мельком отметил, что у ножа приметная рукоятка – костяная, с углублениями для пальцев и двумя большими медными заклепками.
– Так как насчет шпаги, синьор? Шпаги-палаши-кинжалы вострю-полирую!
Я покачал головой и взялся за рукоять двери. Поздновато же чернобородый ищет клиентов! Или его клиентура как раз ночная?
– Ножи-заточки – друзья средь темной ночки! Плати байокко – навострю на два срока!
Да он весельчак!
* * *Громкий голос шевалье дю Бартаса был слышен даже в конце коридора. Первая мысль оказалась не из самых удачных: наш хозяин, отчаявшись получить долг, велел принести «испанский сапог» прямо в номер.
Бурбон, Марсель увидя,Своим воякам рек…Слава Господу в вышних, ошибся. Доблестный шевалье всего-навсего распелся.
О, Боже, кто к нам выйдет,Лишь ступим за порог?То спуски, то подъемы,Ах, горы не легки!..Я постучал и заглянул в комнату. Шевалье дю Бартас восседал за столом, пустой кувшин приткнулся к ножке стула, кубок – тоже пустой – стоял вверх донышком, наводя на грустные мысли.
Дошли, но даже домаСвистели в кулаки!Стась Арцишевский, когда мы с ним в очередной раз дегустировали aqua ardiente, рассказывал, что пушкарям перед залпом следует открыть пошире рот, дабы не оглохнуть. Я уже собрался последовать его совету, но песня смолкла, и я так и не узнал, что стало дальше с вояками славного принца Бурбона.
– Ужинали, синьор дю Бартас?
Его вздох напоминал отзвук дальней канонады, и я невольно посочувствовал славному шевалье. Кажется, не только солдатам принца довелось свистеть в кулак.
– Тогда я закажу ужин прямо сюда, а вы пока расскажете.
– О, мой дорогой друг! – прочувствованно воскликнул дю Бартас. – Поистине вы меня спасаете от лютой смерти, ибо наш каналья хозяин окончательно потерял всякий стыд и определенно решил заморить меня голодом. Ну почему в этом городе никто не дает в долг? Mort Dieu! Проклятые итальяшки! Хуже них – только испанцы, будь они трижды…
Тут он взглянул на меня и осекся.
– То есть, мой дорогой де Гуаира, я ни в коем случае не имел в виду вас…
Меня?
– Извините, ради Бога, сам не знаю, как это язык повернулся…
Я понял. Акцент! Я ведь тоже говорю с кастильским акцентом, как и бедняга де ла Риверо!
– Я не испанец, синьор дю Бартас. И даже не португалец.
– Правда? – Голубые глаза засветились радостью. – О, мой друг, поистине это хорошая новость! Ma foi! Вы мне дороги, будь вы даже гололобым турком, но то, что вы не поганая испанская собака, – это отличная новость!
Я невольно сглотнул. Поганая испанская собака, гололобый турок, английский еретик, итальяшка, грязный индеец, пархатый жид…
А ведь шевалье не из худших в человеческой стае!
– Я русин, если вы, конечно, не против.
Дю Бартас решительно качнул головой:
– Помилуйте, мой друг! Как я могу быть против?.. Гм-м, а это где? В Америке?
Я чуть было не удивился, но вовремя вспомнил о синьорине Коломбине. Кажется, без нее не обошлось.
– Чуть ближе.
– Эх, взглянуть бы! – мечтательно протянул шевалье. – А то, признаться, даже скучно! Никогда не бывал дальше Перпиньяна. Вот только сюда занесло, и то без медяка в кармане.
Желания, высказанные вслух, имеют обыкновение сбываться. По крайней мере иногда.
* * *Ужинал шевалье с превеликим аппетитом, утоляя жажду отличным неаполитанским «Греко». На этот раз я решил проявить здоровую инициативу и лично распорядился по поводу вина.
– Отменно! – констатировал дю Бартас, осушая третий кубок. – Жизнь, дорогой де Гуаира, становится все краше! Кстати, вы деретесь завтра на рассвете, после заутрени. Аппиева дорога, возле гробницы синьоры Цецилии Метеллини.
Глоток «Греко», которым я запивал жареную пулярку, на миг застрял в горле. Завтра?
– Мы решили не тянуть. Parbleu! Такие дела надо решать быстро!
Выходит, маркиз Мисирилли решил не утруждать себя тренировками в искусстве плевания колючками. Жаль! Завтра и без того трудный день.
– Расстояние десять шагов, очередность – по жребию, колючки – ваши. Жаль, не придется все это удвоить!
Опять – удвоить! Переспрашивать я не стал, но дю Бартас разгадал мое недоумение.
– Как, мой дорогой друг? И вы тоже не слыхали об этом? Vieux diable! Сколь медленно распространяются добрые обычаи! В Париже давно всех удваивают. Дерутся не только вызванный и принявший вызов, но и секунданты. Впрочем, удвоить – не предел. Однажды я дрался с самим д`Артаньяном, лейтенантом «черных» мушкетеров. Мы были с ним секундантами; а всего в тот день скрестили шпаги восемь человек. Мне тогда проткнули бедро. Вот это жизнь!
Как мало нужно человеку для счастья!
* * *…Желтая вода подступала к горлу, захлестывала рот, не давая даже крикнуть. Меня бросили в Тибр – как старинную шпагу, врученную моему деду Карлом, императором Священной Римской империи. Тяжелую шпагу с широким лезвием, какие уже почти не носят…
– Я, брат Адам, прозываемый Рутенийцем, исповедник трех обетов и коадъюктор Общества Иисуса Сладчайшего…
Под ногами – пучина, руки застыли, словно в моем запястье уже торчит игла – маленькая колючка с ядом кураре. Ядом, которым убивают ягуаров.
– …добровольно и по душевной склонности принимаю четвертый обет…
На малый миг вода отступает, уходит вниз, и я начинаю понимать, что все неправильно. У меня никогда не было шпаги, мой дед не служил императору Карлу, и мне незачем принимать четвертый обет, повторяя звонкие латинские слова. Я уже принял его неделю назад здесь, в Риме…
– …повиноваться Его Святейшеству Папе и Его Высокопреосвященству Генералу…
Да, мой отец никогда не служил Империи. Он был верен королю Жигимонту и ради этой верности бросил меня, еще не родившегося, чтобы умереть от ран под Дорогобужем, в далекой неведомой Московии. У него не было шпаги, была сабля, старинная «корабелка», доставшаяся не мне, а старшему брату.
– …воспитывать новициев в духе преданности Господу нашему Иисусу Христу и Обществу Его…
…Как воспитывали меня самого. Мать умерла, когда мне было восемь, и дальние родичи поспешили определить сироту в коллегиум. Доля младшего сына – стать священником или ландскнехтом.
– …а также нести свет веры Иисусовой по всему миру среди диких туземцев, не жалея сил и самой жизни…
Но ведь я и так посвятил этому жизнь! Я нес свет, не жалел жизни, ни своей, ни чужой!..
Я нес свет. Я – Светоносный.
Светоносный…
Люцифер.
Я – Черный Херувим.
Нет!!!
От ужаса путаются мысли, а вода уже заливает глаза, легкие тяжелеют, наполняются рвущейся болью. А голос все звучит, и кто-то невидимый повторяет знакомые слова. И тут я наконец начинаю понимать…