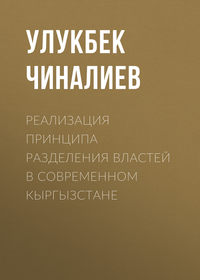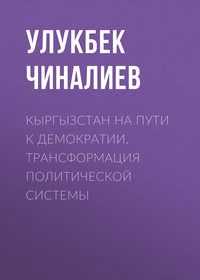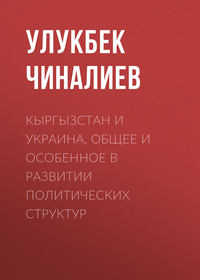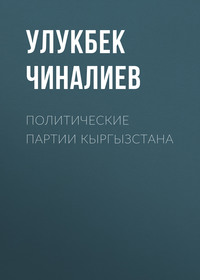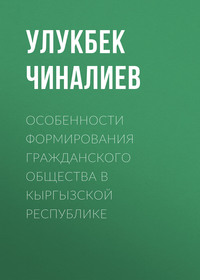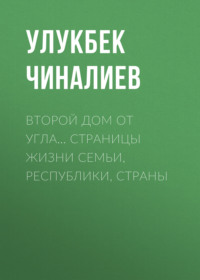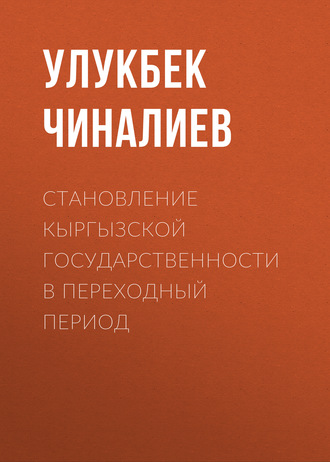 полная версия
полная версияСтановление кыргызской государственности в переходный период
Ярко выразил социальную роль суда, в частности в разрешении конфликтов между государством и гражданами, французский исследователь Соединенных штатов Америки А. де Токвиль, который еще в 1835 г. писал: «Все правительства имеют лишь две возможности преодолеть сопротивление, оказываемое им гражданами: материальные средства, которыми они сами располагают, и решения судов, к чьей помощи они могут прибегать.
Правительство, которое может принуждать к повиновению своим законам только силой оружия, находится на грани гибели. С ним, по всей вероятности, произойдет одно из двух: если это слабое и умеренное правительство, то оно прибегнет к силе лишь в самом крайнем случае, оставляя без внимания множество мелких случаев неповиновения, и тогда государство окажется во власти анархии.
Если же правительство сильное и решительное, то оно будет прибегать к насилию ежедневно и вскоре превратится в военно-деспотическое. Его бездействие, равно как и его деятельность, окажутся одинаково гибельными для населения, которым оно управляет.
Великая цель правосудия состоит в замене идеи насилия идеей права, в установлении правовой преграды между правительством и используемой им силой» (4).
Судебная власть охватывает довольно широкий спектр общественных отношений, самостоятельное, вне судебного разбирательства, регулирование этих отношений породило бы в обществе настоящий хаос. Следовательно, судебная власть в цивилизованном обществе незаменима, она помогает устранять конфликты и порождающие их причины, гармонизировать общественные отношения.
Деятельность суда по разрешению правовых конфликтов называется юрисдикционной. Юрисдикционная деятельность может быть в известных пределах присуща и представительным, и административным органам, однако такие случаи представляют собой исключение из правил, и, кроме того, такая деятельность административных органов в демократическом государстве всегда подконтрольна суду. Юрисдикционная деятельность судов представляет собой правосудие, т. е. вынесение подлинно правовых решений по разбираемым конфликтам. Это достигается благодаря применению специальных процессуальных норм, призванных гарантировать права человека в судебном процессе и облегчить по каждому рассматриваемому делу установление истинных обстоятельств.
Сказанное, конечно, не означает, что суд всегда и обязательно справедлив, что судебные решения всегда и обязательно правосудны. История знает немало случаев, когда суд в своих решениях руководствовался не правом, а, например, т. н. революционной целесообразностью, указаниями должностных лиц, выполнял социальный заказ определенных политических партий, кланов, когда вся его деятельность сводилась преимущественно к карающей функции. Но все это – досадные случаи отклонения от системы, в противном случае никакой демократический режим, никакой институционный строй не были бы возможны.
В демократических странах суды имеют сходные цели, выполняют сходные задачи, у них одинаковые принципы деятельности, одни и те же функции. Однако в каждой стране судебная власть может иметь свои особенности, обусловленные исторической традицией, сложившейся практикой. Эти особенности в первую очередь касаются структур судебной власти. Так, в странах англосаксонской модели суды часто образуют единую систему во главе с верховным судом. В то же время в романо-германской модели, характерной для большинства стран континентальной Европы, наблюдается тенденция к полисистемности, что предполагает создание нескольких независимых друг от друга систем общих и специализированных судов во главе со своими высшими судами. В некоторых мусульманских странах наряду с государственными действуют шариатские суды, они имеют персональный характер: мусульманскому суду подлежат только единоверцы или лица, согласившиеся на такой суд. Судебный процесс в таких судах осуществляется по канонам шариата со специфическими формами ответственности и в гражданском, и в уголовном праве.
К числу специальных судов относятся военные (для военнослужащих), суды по делам малолетних, трудовые, по земельным и водным спорам, претензионные, коммерческие, административные (рассматривают споры граждан с чиновниками и административными органами государства) и др. Отдельную ветвь составляют суды обычного права (например, суды старейшин), они рассматривают имущественные споры между соседями, споры об использовании земли, воды, лесов, пастбищ, некоторые вопросы семейного права на основе обычаев.
Особое место занимают конституционные суды. Обычно они рассматривают вопросы соответствия законов и нормативных актов высших органов государственной власти Конституции, конституционной ответственности высших должностных лиц.
Что касается т. н. чрезвычайных судов, т. е. таких, которые образуются в ином порядке, чем определено конституцией и законами, действуют вне правил судебной процедуры, а иногда и применяют наказания, не предусмотренные уголовным кодексом, то конституции обычно содержат запрет на их создание.
Структура судебной власти охватывает, кроме судов, некоторые виды иных государственных органов и учреждений, обслуживающих судебную власть: органы предварительного расследования, прокуратуру, адвокатуру, судебную полицию.
В осуществлении судебной власти чрезвычайно важным является ответ на вопрос: а судьи кто? Эти должностные лица должны отвечать целому ряду высоких требований как профессионального (юридическое образование, соответствующий стаж юридической работы), так и морального (безупречная репутация, отсутствие судимости и др.) характера, которые устанавливаются законом. Хотя на практике подчас имеют место отступления от требований закона.
Как правило, судебный корпус формируется путем назначения, хотя встречаются и случаи выборности. Преобладание назначаемости судей имеет серьезные аргументы, несмотря на то что не в полной мере отвечает принципам демократии. При выборах судей гражданами и даже представительными органами неизбежно присутствует политический фактор, что противоречит объективным требованиям максимально возможной деполитизации судебной власти. Конечно, политический момент может играть роль и при назначении судей, поэтому представляется предпочтительным такой порядок назначения, при котором оно не является прерогативой только одной какой-либо ветви власти.
Суд должен быть независимым. Одной из гарантий такой независимости является несменяемость судей: обычно они не могут быть смещены или перемещены без своего согласия или иначе, чем по решению высшей власти или органа судебного самоуправления. Законодательство, как правило, устанавливает несовместимость функций судьи с иными занятиями, а также запрещает судьям участие в политических, а иногда и в профсоюзных организациях. В ряде стран устанавливается верхний возрастной предел, по достижении которого судья автоматически выходит в отставку с сохранением ряда льгот и привилегий.
Важным организационным принципом, также обеспечивающим независимость, самостоятельность судебной власти, защиту интересов судей, является создание высших органов судейского сообщества. Это конституционный орган, формируемый по установленным процедурам и нормам представительства. Обычно эти органы в той или иной мере решают вопросы назначения, перемещения, повышения, понижения, аттестации и освобождения судей. Иногда на них возлагается инспектирование судов, дисциплинарный режим и др.
Из всего множества судов, составляющих структуру судебной власти, максимальный объем работы приходится на суды общей юрисдикции, они рассматривают гражданские и уголовные дела. Обычно в каждой стране действует несколько звеньев судов общей юрисдикции. При этом, как правило, каждое конкретное дело по существу рассматривают суды первой инстанции (мировые судьи, районные суды, суды судебных округов и др.). Второй инстанцией являются апелляционные суды, куда можно обращаться с жалобой на решение суда первой инстанции. В апелляционном порядке суд второй инстанции рассматривает дело по существу с новой проверкой ранее рассмотренных и вновь представленных доказательств и постановляет свое решение, при этом решение суда первой инстанции может быть отменено. Судами третьей инстанции являются кассационные суды. В кассационном порядке вышестоящий суд проверяет только соблюдение закона нижестоящим судом, не вдаваясь в существо дела, и только в рамках заявленной жалобы. Если решение нижестоящего суда отменено судом в кассационном порядке, дело заново рассматривается обычно тем же нижестоящим судом, но в ином составе судей.
Деятельность судов, как и других ветвей власти, регулируется конституцией. В каждом конкретном случае конституции содержат соответствующие нормы, которые в разных странах могут несколько отличаться. Но в общем плане конституционные принципы декларируют:
– осуществление правосудия только судом;
– независимость судей и подчинение их только закону;
– свободу доступа к суду;
– коллективное отправление правосудия. Лишь мелкие правонарушения могут рассматриваться судьей единолично;
– ведение судебного процесса на языке, понимаемом сторонами или обеспечение им переводчика за счет государства;
– гласность, т. е. открытость суда;
– возможность обжалования и пересмотра судебного решения путем апелляции, кассации или ревизии (сочетает черты апелляции и кассации);
– ответственность государства за судебную ошибку.
Место судебной власти в структуре органов государственной власти, формы организации и принципы деятельности, роль в государственной и общественной жизни, в конечном счете – авторитет суда во многом определяются характером политического режима, господствующего в каждой отдельной стране. В странах с демократическим режимом судебная власть представляет самостоятельную, независимую ветвь. И все, что сказано выше о сущности судебной власти, ее социальной роли, структуре, принципах деятельности, относится преимущественно к странам с демократическим режимом. Что касается авторитарных, а тем более тоталитарных режимов, то там судебная власть имеет свои особенности, которые в конечном счете отрицательно сказываются на ее деятельности.
До вхождения кыргызских племен в состав Российской империи у них действовали две системы права: адат (неписаное обычное право) и шариат (приспособленное к местным условиям мусульманское право). Судопроизводство по адату не знало строгого порядка разделения на уголовное и гражданское, осуществлялось биями (старейшинами родов) и передавалось по наследству. Решение выносилось устно, могло быть обжаловано манапом. Судопроизводство по шариату осуществлялось на догмах ислама судом казиев и характеризовалось бессмысленной жестокостью.
С вхождением кыргызов в состав России на кыргызские территории было распространено российское законодательство, регулирующее судоустройство и судопроизводство. Была установлена система судов, закреплены основы диспозитивности, состязательности, гласности, создан институт обжалования, применялись нормы процессуального права и др. После установления советской власти на территории Кыргызстана, даже после провозглашения его союзной республикой, действовали законы РСФСР – Декреты о суде, Положение о народном суде и др. Только в 1965 г., например, был введен в действие Гражданский процессуальный кодекс Киргизской ССР. Все правовые акты республики основывались на соответствующих актах РСФСР, а впоследствии – на основах союзного законодательства. Поэтому говорить о кыргызском суде и кыргызском праве в советские времена можно с большой долей условности.
Главная особенность судебной власти в СССР состояла в том, что она не признавалась самостоятельной ветвью государственной власти. Объясняется это тем, что марксизм-ленинизм, официальная идеология КПСС и СССР, не воспринял принцип разделения властей. В. И. Ленин считал, что опровержением теории разделения властей был опыт Парижской коммуны, которую он называл «работающей корпорацией», соединившей принятие законов с осуществлением их применения. Принципу разделения властей противопоставляется принцип единства власти трудового народа, якобы воплощенный в Советах.
Это утверждение в полной мере касается и бывших советских республик, в том числе и Кыргызстана. Конституция Киргизской ССР устанавливала: «Вся власть в Киргизской ССР принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющих политическую основу Киргизской ССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов» (5). Естественно, норма о подконтрольности и подотчетности Советам народных депутатов распространялась и на суды.
В связи с этим своеобразно понимался и принцип независимости судов. Конституция Киргизской ССР декларировала, что «судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону» (6). В то же время другая норма той же Конституции утверждала: «Судьи и народные заседатели ответственны перед избирателями и избиравшими их органами, отчитываются перед ними и могут быть ими отозваны в установленном Законом порядке» (7). Как видим, одна норма противоречит другой. Впрочем, на это противоречие никто не обращал внимания, поскольку все важные, принципиальные правовые вопросы, относящиеся к компетенции суда, в конечном итоге решались отнюдь не судом, а соответствующими партийными органами.
В Киргизской ССР, как и вообще в СССР, применялся принцип выборности судов: народные судьи районных (городских) народных судов избирались гражданами района (города) на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет, а вышестоящие суды избирались соответствующими Советами сроком также на пять лет (8). При этом важно отметить, что кандидатуры лиц, рекомендуемых для избрания на должности судей то ли гражданами, то ли Советами, предварительно согласовывались соответствующими партийными комитетами. Выборы, как вообще было принято в СССР, проводились на безальтернативной основе. Естественно, каждый судья обязательно должен был быть членом КПСС. Все важнейшие решения судов также предварительно согласовывались с территориальными партийными комитетами. А если на рассмотрение суда поступало дело (то ли гражданское, то ли уголовное), касавшееся члена КПСС, то суд о таком деле должен был предварительно информировать соответствующий партийный орган. В СССР был установлен порядок, при котором член КПСС не мог быть осужден судом. Поэтому партийный комитет еще до судебного разбирательства рассматривал и решал вопрос о судьбе преданного суду члена КПСС, в отношении явно провинившихся коммунистов принималось решение об исключении их из КПСС. Такие партийные решения предопределяли решения суда, суд должен был руководствоваться партийными решениями. Суды обязаны были также регулярно представлять в административные отделы соответствующих партийных комитетов отчеты о своей деятельности. При такой постановке дела о независимости судов не могло быть и речи.
Конечно, в соответствии с мировыми демократическими традициями и правовой практикой, Конституция СССР и Конституция Киргизской ССР провозглашали, что правосудие осуществляется только судом. Больше того, Конституция Киргизской ССР вслед за Конституцией СССР провозглашала, что «Советское государство, все его органы действуют на основе социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан», «граждане Киргизской ССР равны перед законом», «гражданам Киргизской ССР гарантируется неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как на основании судебного решения или с санкции прокурора», «граждане Киргизской ССР имеют право на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество» (9). Но в то же время известно, что в практике Советского государства, особенно в 30–50-е гг., эти принципы грубо нарушались, имели место многочисленные случаи вынесения приговоров внесудебными органами – «тройками», «особыми совещаниями» и проч. Все это подрывало авторитет судебной власти, превращало ее в карающий меч, не имеющий ничего общего с правосудием. Известны также многочисленные случаи фабрикации, фальсификации уголовных дел, например по отношению к участникам правозащитного или диссидентского движений. Таким образом, провозглашенный лозунг о «самом демократическом и справедливом суде в мире» превращался в демагогию, фикцию и обман.
В Киргизской ССР была установлена единая система судов. Судами в республике были: Верховный Суд Киргизской ССР, областные суды, Фрунзенский городской суд, районные (городские) народные суды. Верховный Суд Киргизской ССР являлся высшим судебным органом республики, он осуществлял надзор за судебной деятельностью судов Киргизской ССР. Суд избирался Верховным Советом Киргизской ССР. Областные суды и Фрунзенский городской суд избирались соответствующими Советами народных депутатов. Районные (городские) суды, как уже отмечалось, избирались гражданами. Народные заседатели районных (городских) судов избирались на собраниях граждан по месту их работы или жительства открытым голосованием сроком на два с половиной года. Народные заседатели вышестоящих судов избирались соответствующими Советами народных депутатов.
В республике существовали военные суды (трибуналы), их деятельность распространялась на военнослужащих. Однако поскольку в СССР армия была единой, Киргизская ССР собственных воинских формирований не имела, то действовавшие на территории республики военные суды не относились к компетенции Киргизской СCP, они подчинялись соответствующим союзным органам. А что касается хозяйственных споров между предприятиями, учреждениями и организациями, то их разрешение осуществлялось органами государственного арбитража, руководство которыми осуществлялось Государственным арбитражем при Совете Министров СССР. Таким образом, военные суды и органы арбитража не входили в систему судебных органов Киргизской ССР.
Конституция Киргизской ССР устанавливала, что рассмотрение гражданских и уголовных дел во всех судах осуществляется коллегиально, в суде первой инстанции – с участием народных заседателей. Народные заседатели при осуществлении ими правосудия наделялись правами судей (10). Конституция также устанавливала равенство граждан перед законом и судом, открытость разбирательства дел во всех судах (слушание дел в закрытом заседании суда допускалось лишь в случаях, установленных законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства), право обвиняемого на защиту, осуществление судопроизводства на кыргызском языке или языке большинства населения данной местности (участвующим в судопроизводстве лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивалось участие в судебных действиях переводчика) и др. (11). Допускалось участие в судопроизводстве по гражданским и уголовным делам представителей общественных организаций и трудовых коллективов, которые могли выступать как со стороны обвинения, так и защиты.
Внешне эти конституционные принципы и нормы выглядели вполне демократично, они по форме соответствовали основным положениям мировой правоприменительной практики. Но в действительности дело обстояло несколько иначе. Советская судебная система отражала советский тоталитаризм, была составной частью системы контроля за жизнью, деятельностью и умонастроениями граждан и была призвана в первую очередь защищать и охранять советское государство, советскую политическую и экономическую системы.
Весьма своеобразно толковался вопрос о социальной роли суда. Определяя задачи суда, законодательство Киргизской ССР устанавливало: «Вся деятельность суда направлена на всемерное укрепление социалистического правового государства, законности и правопорядка, утверждение принципа социальной справедливости, обеспечение демократизации и дальнейшего развития самоуправления народа, предупреждение правонарушений, воспитание граждан в духе точного и неуклонного исполнения Конституции СССР, Конституции Киргизской ССР и советских законов, уважения к правам, чести и достоинству граждан, к правилам социалистического общежития» (12). Как видим, закон обошел молчанием вопрос о социальной роли суда, как он понимается в мировой политической и юридической литературе и правовой практике (разрешение на основе закона юридических конфликтов), а возлагал на суд не свойственные ему задачи, относившиеся к совершенно другим ведомствам.
Будучи репрессивной по своей сути, тоталитарная судебная система слабо защищала личность. Об этом свидетельствует, например, тот факт, что в судебной практике судов Киргизской ССР практически не было дел, связанных с осуществлением конституционных прав граждан на судебную защиту от посягательств на честь и достоинство, а также дел по пресечению действий должностных лиц, совершенных с нарушением закона, с превышением полномочий, ущемлявших права граждан, хотя Конституция Киргизской ССР возлагала рассмотрение таких дел на суд (13). А если к этому добавить, что в работе судов преобладал обвинительный уклон, то понятно, что на уровне будничного сознания складывалось мнение о суде не как о справедливой инстанции, призванной беспристрастно на основе закона разрешать всевозможные юридические конфликты, а как о карающей деснице, от которой нет зашиты. Понятно также, что в этих условиях о правовом государстве не могло быть и речи.
Обретя независимость, Кыргызстан одной из центральных задач на пути демократизации поставил создание правового государства, т. е. создание такого правопорядка, когда обеспечивается связанность правового государства, общества и гражданина, реально утверждается верховенство закона и юридическое равенство всех объектов права, а в первую очередь – равенство государства и гражданина, при котором общественные интересы гарантируются законодательно, а индивид защищен правовыми нормами от любых посягательств со стороны не только других индивидов, но и государственных органов. Все это требовало перестройки всей общественно-политической жизни, отказа от тоталитаризма во всех его проявлениях и, в частности, в области правовых отношений, формирования по существу новой судебной системы, отвечающей мировым стандартам демократии, повышения роли, ответственности и авторитета суда. В частности, речь шла о том, чтобы:
– реализовать принцип разделения властей, определить компетенции судебной власти, ее место в триаде ветвей власти, взаимоотношения с другими ветвями власти;
– определить структуру судебной власти, полномочия каждой ее ветви;
– обеспечить самостоятельность и независимость суда, устранить политическое и иное давление на суд, деполитизировать его, создать материальные и другие условия для его успешной деятельности;
– сформировать новый судейский корпус;
– создать законодательную базу для юрисдикционной деятельности суда;
– создать судейское самоуправление и др.
В конечном итоге все названные задачи сводились к проведению судебно-правовой реформы. Естественно, ее проведение требовало определенного времени: необходимо было осмыслить новую роль суда, по-новому осмыслить правовые отношения, подготовить судейский корпус к работе в новых условиях, разработать новые нормативные документы и т. д. Дело усложнялось тем, что судебно-правовую реформу нужно было проводить, так сказать, «на ходу», поскольку юрисдикционная деятельность судов не могла прекращаться, множество судебных дел требовало рассмотрения, ибо за каждым из них стояли люди, их права, имущественные и другие отношения. Вследствие этого судебно-правовая реформа слишком затянулась, хотя по ее проведению сделано очень много, но до логического завершения еще далеко.
Первые, хотя и робкие, шаги по проведению судебно-правовой реформы были сделаны еще в годы перестройки, до распада СССР и обретения Кыргызстаном независимости. Так, в соответствии с Законом Киргизской ССР от 23 сентября 1989 г. «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) Киргизской ССР» (14) было установлено, что народные судьи районных (городских) судов, областных судов, Фрунзенского городского суда, Верховного Суда избираются Верховным Советом Киргизской ССР сроком на десять лет; народные заседатели (порядок их избрания не менялся) избирались сроком на пять лет; назначение Государственного арбитража Киргизской ССР было отнесено к компетенции Верховного Совета Киргизской ССР. Закон учредил новый орган государственной власти – Комитет конституционного надзора Киргизской ССР, который в формальном понимании не был судом, но выполнял функции конституционного суда. На Комитет конституционного надзора возлагалось представление Верховному Совету Киргизской ССР заключений о соответствии проектов законов, подлежащих рассмотрению, и актов Верховного Совета Конституции Киргизской ССР, наблюдение за соответствием Конституции и законам Киргизской ССР постановлений и распоряжений Совета Министров, решений местных Советов народных депутатов, актов местных Советов народных депутатов, актов других государственных органов и общественных организаций. Закон установил, что состав Комитета конституционного надзора избирается Верховным Советом Киргизской ССР сроком на десять лет. Закон также установил неприкосновенность судей и народных заседателей и другие гарантии их деятельности.