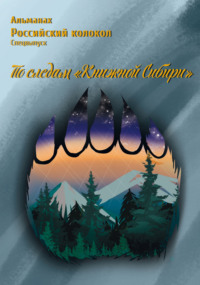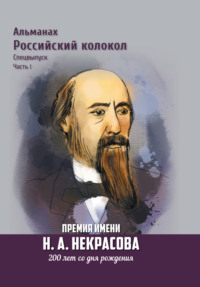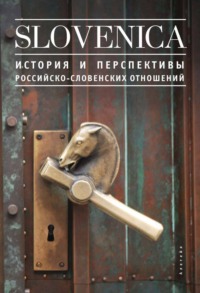полная версия
полная версияСеверный крест
Задачей было здѣсь: добиться такого слова, которое претворилось бы (словами В. П. Зинченко изъ «Живого времени…», сказанными о поэзіи О.Мандельштама) – въ «плугъ, взрывающій время такъ, что глубинные пласты времени оказываются сверху. Тогда, по словамъ поэта, можетъ даже впервые родиться вчерашній день», чтобы почившій многотысячелетней древности Критъ ожилъ, играя тысячью искрящихся на критскомъ Солнцѣ красокъ, сохранивъ дыханіе – не жизни, но единой культуры.
* * *Слѣдуетъ отмѣтить, что я не пѣстую реализмъ (для меня: символизмъ и романтизмъ выше реализма[84]) и и жанръ романный; реализмъ – штамповка [мастера – въ случаѣ, скажемъ, Л.Н.Толстого, послѣдняго человѣка – въ случаѣ современномъ]. Романъ явленіе не античное, зародился онъ въ Средніе вѣка въ Европѣ какъ разсказъ, писанный на народномъ языкѣ для широкой аудиторіи и рвущій съ латинской традиціей словесности; можно ли удивляться, что именно онъ сперва потѣснилъ, а послѣ и во многомъ вытѣснилъ иные виды эпоса? Liber romanticus – не героическія пѣсни прошлаго, но народное бытописаніе, земное по преимуществу, но безъ самого преимущества. Всѣ нормативныя поэтики вѣками не признавали романъ какъ жанръ высокій. И по праву. Сатирическое и реалистическое искусство всегда было для народа, для широкихъ массъ; оно никогда не было высокимъ и не для высокихъ оно предназначалось. Всегда было два искусства: для массъ и для немногихъ. Мною писанное есть поэма, что означаетъ: большая лиричность и, какъ слѣдствіе, большая дробность, фрагментарность, прерывистость и кратковременность повѣствованія, меньшій хронологическій охватъ и меньшая детализированность, меньше плановъ, языкъ плотнѣе и насыщеннѣе, что выражается въ свойственномъ поэмѣ паѳосѣ (большая страстность, воодушевленіе и возвышенность въ выраженіяхъ мыслей и чувствъ); также фабула въ поэмѣ являетъ себя инако. Романъ стараго образца есть почва благодатная для цвѣтенія плодовъ посредственныхъ. Новый романъ (скажемъ, «Петербургъ» Бѣлаго), напротивъ, есть планка, почти ни для одного автора недоступная. “Ex oriente lux” – циклъ поэмъ, а не романовъ, она всецѣло находится въ лонѣ символизма. Романъ и реализмъ – взаимосвязаны: романъ имѣетъ много сюжетныхъ линій и детально выписанныхъ подробностей любого рода, а послѣднее есть условіе необходимое для реализма и – шире – для реалистичности, живости описываемаго. Романъ есть искусство земное, созданное въ цѣляхъ земного, космическаго[85]. Романъ – срединное царство[86]. Отмѣтимъ: если въ критской поэмѣ всё же присутствуетъ романное измѣреніе, то во всѣхъ прочихъ его не будетъ и вовсе.
Реалисты схвачены, какъ прибоемъ, конкретной жизнью, за которой они не видятъ ничего, – символисты, отрѣшенные отъ реальной дѣйствительности, видятъ въ ней только свою мечту, они смотрятъ на жизнь – изъ окна. Это потому, что каждый символистъ, хотя бы самый маленькій, старше каждаго реалиста, хотя бы самаго большого. Одинъ еще въ рабствѣ у матеріи, другой ушелъ въ сферу идеальности <…> Въ то время какъ поэты-реалисты разсматриваютъ міръ наивно, какъ простые наблюдатели, подчинясь вещественной его основѣ, поэты-символисты, пересоздавая вещественность сложной своей впечатлительностью, властвуютъ надъ міромъ и проникаютъ въ его мистеріи. Сознаніе поэтовъ-реалистовъ не идетъ дальше рамокъ земной жизни, опредѣленныхъ съ точностью и съ томящей скукой верстовыхъ столбовъ. Поэты-символисты никогда не теряютъ таинственной нити Аріадны, связывающей ихъ съ міровымъ лабиринтомъ Хаоса, они всегда овѣяны дуновеніями, идущими изъ области запредѣльнаго, и потому, какъ бы противъ ихъ воли, за словами, которыя они произносятъ, чудится гулъ еще другихъ, не ихъ голосовъ, ощущается говоръ стихій, отрывки изъ хоровъ, звучащихъ въ святая святыхъ мыслимой нами Вселенной. Поэты-реалисты даютъ намъ нерѣдко драгоцѣнныя сокровища, но эти сокровища такого рода, что, получивъ ихъ, мы удовлетворены – и нѣчто исчерпано. Поэты-символисты даютъ намъ въ своихъ созданьяхъ магическое кольцо, которое радуетъ насъ, какъ драгоцѣнность, и въ то же время зоветъ насъ къ чему-то еще, мы чувствуемъ близость неизвѣстнаго намъ, новаго, и, глядя на талисманъ, идемъ, уходимъ куда-то дальше, всё дальше и дальше.
Итакъ, вотъ основныя черты символической поэзіи: она говоритъ свои особымъ языкомъ, и этотъ языкъ богатъ интонаціями; подобно музыкѣ и живописи, она возбуждаетъ въ душѣ сложное настроеніе, – болѣе чѣмъ другой родъ поэзіи трогаетъ наши слуховыя и зрительныя впечатлѣнія, заставляетъ читателя пройти обратный путь творчества: поэтъ, создавая свое символическое произведеніе, отъ абстрактнаго идетъ къ конкретному, отъ идеи къ образу, – тотъ, кто знакомится съ его произведеніями, восходитъ отъ картины къ душѣ ея, отъ непосредственныхъ образовъ, прекрасныхъ въ своемъ самостоятельномъ существованіи, къ скрытой въ нихъ духовной идеальности, придающей имъ двойную силу. (Бальмонтъ К. Элементарныя слова о символической поэзіи).
Этотъ варваръ, со всей силой своего генія, молодости, напора, – докажетъ, что роль Пушкина въ русской поэзіи кончена. И «прекрасная легенда» о великомъ русскомъ поэтѣ рухнетъ въ день, когда въ витринахъ книжныхъ магазиновъ появится его книга, статья, не знаю что» (Ивановъ Г. Почтовый ящикъ). – Въ самомъ дѣлѣ, кого еще боготворить, за кого цѣпляться, какъ не за Пушкина, если А.Бѣлый для Г. Иванова – геній-графоманъ, читать его творенія «трудно и непріятно изъ-за несносной манеры», воспоминанія Бѣлаго «правильнѣе было бы назвать «Почему изъ меня ничего не вышло» или въ этомъ родѣ», въ иныхъ твореніяхъ Бѣлаго «мы видимъ, «какъ дошелъ до жизни такой» Андрей Бѣлый. Видимъ, какъ прогрессировала въ нёмъ расхлябанность души и неврастенія, въ наши дни дошедшая въ книгахъ Бѣлаго до послѣдняго предѣла»; итогъ Иванова: «…этотъ знаменитый писатель блестяще подтверждаетъ печальную истину, что талантъ и графоманія – понятія, не исключающія другъ друга», – какъ черезъ страницу признается онъ въ уже упомянутомъ «Почтовомъ ящикѣ»: лишь расписавшись въ собственной срединности (чтобы не сказать – медноголовости) – психизме: Ивановъ – типическій казалось бы психикъ, но психикъ, колеблясь и сидя на двухъ стульяхъ, внемлетъ пневматическому, а Ивановъ – не въ силахъ.
Мои поэмы – не таковы: онѣ устремляютъ прочь отъ земного, онѣ возводятъ душу горѣ. Форма романная имъ едва ли не противопоказана. Именно поэтому (а не по какой иной причинѣ) онѣ суть поэмы въ прозѣ и могли бы быть драмами. О реализмѣ не можетъ быть и рѣчи: реальное здѣсь ирреально, ирреальное же реально. Я не желаю ни съ кѣмъ стоять рядомъ, мое Слово – не литература въ привычномъ смыслѣ, которая чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе деградируетъ. Романъ означаетъ: реализмъ, обиліе деталей и языкъ разслабленный. Поэма въ прозѣ – въ моемъ случаѣ – означаетъ: символизмъ, деталей порою намѣренно (а не вынужденно) мало, либо очень мало, детализируется только важное, а не всё, какъ въ романѣ, что предоставляетъ право читателю домысливать самому необходимыя ему для видѣнія картины живой подробности, и лишь 3 сюжетныя линіи: линія черни, линія Дворца и наслаивающаяся на нихъ линія М., главнаго героя первой поэмы. На сюжетъ, на (квази) – историческое – въ свою очередь – наслаивается метаисторическое, претворяющее предъ-исторію въ нѣчто болѣе важное и эпохальное, быть можетъ, и въ сравненіи и со всей послѣдующей исторіей! Рѣчь идетъ о метаисторіи, вплетенной въ лоно исторіи, гдѣ исторія не болѣе историческаго если не фона, то здѣшняго проявленія и отраженія метаисторіи. Критъ четырехтысячелетней давности здѣсь – поверхность, зеркало и фонъ; за завѣсою исторіи обнаруживаетъ себя метаисторія, коей угодно изливать самое себя въ исторію когда ей угодно. Именно поэтому Критъ узкихъ историческихъ рамокъ пріобрѣтаетъ смыслъ вселенскій, а точка на линіи исторіи – ежели она и остается точкой – претворяется во взрывъ сверхновой [звѣзды]. – Раннія минойскія времена становятся временами всего человѣчества: изъ временъ дробныхъ преходя въ самое Время. – Всегда были Имато, Касато, Ира, Атана и пр. – съ одной стороны, съ иной – Акай, Акеро и – парящій надо всѣмъ – М., возможный – отъ вѣка и до вѣка – въ каждый моментъ Времени, начиная съ описываемой эпохи… Summa summarum: Критъ здѣсь не только поверхность и фонъ, но и изначальная Тьма, гдѣ зарождается Свѣтъ. Иными словами, міръ здѣсь – своеобразный фонъ развертыванія божественныхъ энергій.
Отчасти таковы развѣ что (изъ извѣстнаго мнѣ) лишь многочисленныя произведенія (не всѣ) Ф. Достоевскаго, Д.Мережковскаго и Т.Манна, Г.Гессе: на историческое наслаивается метаисторическое. Но у Мережковскаго міровоззрѣніе вполнѣ космическое, у меня – акосмическое; онъ считаетъ язычество лишь этапомъ – и этапомъ прекраснымъ едва ль не во всёмъ – самораскрытія христіанства, позднѣе непонятаго, изолганнаго, а къ его времени – на дѣлѣ – и позабытаго (Богъ умеръ не самъ по себѣ: онъ умеръ въ сердцахъ людскихъ). Мережковскій язычество (не всё, впрочемъ) считалъ началомъ, зачиномъ христіанства, а самое христіанство (историческое) – язычествомъ, и считалъ, что исторія религіи = полу-неудавшаяся исторія самораскрытія Абсолюта. Для меня пріемлемо и такое міровоззрѣніе, но мнѣ интересенъ гностицизмъ, который, какъ и всё, пропитанное духомъ его, есть бунтъ и мятежъ Духа. Гностическое ученіе есть, вѣроятно, подлинное благовѣстіе историческаго, а не выдуманнаго Христа, и сіе есть почти фактъ (отсылаю читателя къ трудамъ И.Евлампіева и нѣк. иныхъ). Въ поэмѣ, впрочемъ, рѣчь идетъ, скорѣе, о монотеизмѣ особаго рода – включающаго въ себя Христа и Люцифера равно и единовременно: у меня дальнѣйшее развитіе гностическаго ученія – не въ видѣ метафизическихъ схемъ, а въ видѣ самой жизни. Въ этомъ смыслѣ я анти-Мережковскій[87], выражаясь кратко; въ этомъ же смыслѣ я и анти-Маннъ, ибо всё бытіе М. противоположно бытію его Іосифа. Скажемъ такъ: Мережковскій подробно выражаетъ свое метаисторическое посредствомъ исторической прозы – языкомъ, какъ правило (кромѣ мѣстъ рѣдкихъ, но, впрочемъ, всегда имѣющихся въ каждомъ произведеніи), романно-разслабленнымъ, позднимъ, слишкомъ позднимъ. Я наслѣдую – изъ извѣстныхъ мнѣ – не только Мережковскому, но и двумъ книгамъ двухъ авторовъ: «Ожерелью странника» Хаггарда и «Византіи» Жана Ломбара, человѣка судьбы не менѣе трагической, нежели моя судьба. Но въ мѣрѣ большей я наслѣдую Ницше и Гельдерлину.
Случись кому изъ великихъ романистовъ прошлаго жить нынѣ, они – со всѣмъ своимъ мастерствомъ – живописали бы современную намъ эпоху и часто бъ использовали современную лексику (при условіи, что они не упали бы въ обморокъ отъ всецарящаго въ наши дни безкультурья). И въ силу того, что эпоха нынѣшняя есть культура побѣдившаго хама, и хамъ вездѣ, симъ литераторамъ пришлось бы занизить стиль повѣствованія, дабы не перестать быть реалистами: каково время, таковъ и романъ. Однако, мня себя реалистами, они всегда переставали быть реалистами, когда затрагивали опредѣленныя темы, вѣрнѣе: обходили ихъ стороною.
Мы съ прискорбіемъ отмѣчаемъ, что въ исторіи литературы побѣдилъ реализмъ, а не символизмъ. Надобно пѣстовать символизмъ – хотя бы потому, что вездѣ и всюду засилье реализма, пошлѣйшаго. Съ еще большимъ прискорбіемъ отмѣчаемъ: если искусство, почти окончившееся нынѣ, подражало природѣ, то искусство новое – техникѣ; и если первое стоитъ подъ знакомъ разума и духа, то второе – подъ знакомъ безсознательнаго, внеразумнаго, внедуховнаго. – Конецъ культуры – въ разгулѣ нигилизма, выражаемомъ, въ частности, и въ цинизмѣ и юморѣ, коими нынѣ затоплено бытіе, не дающее потому своею влагою расти всему огненосно-высокому, въ смѣхѣ безъ причины, но не смѣхъ такого рода есть признакъ «дурачины», а самъ смѣхъ порождаетъ «дурачину» и зиждетъ …конецъ. Такъ было въ Древней Греціи III вѣка до Р.Х. (незадолго до паденія), но нынче цинизмъ растетъ цвѣтомъ, несомненно, болѣе пышнымъ. Культура цинизма (вкупѣ или не вкупѣ съ заумью), разрушающая, потому что не можетъ созидать, есть поистинѣ антикультура, и приходитъ она на закатѣ той или иной цивилизаціи, позднѣе она главенствуетъ и всецаритъ, какъ нынѣ, а подлинное и высокое тогда становится маргинальнымъ – контркультурою[88].
Поэмы, скорѣе, тяготѣютъ къ серебряновековскому символизму, въ равной степени и къ романтизму, нежели къ чему-либо иному. Съ иной стороны, есть опредѣленная связь съ многочисленными трилогіями (и одной дилогіей) Д.Мережковскаго, но вопросы и темы, затронутыя въ нихъ, рѣшаются у меня инако. – Ибо рѣчь идетъ о серіи поэмъ, сквозь которыя нѣчто подобное гностицизму (скажемъ, примордіальный гносисъ съ большою толикою люциферіанства, иль нѣкій предъ-гносисъ) проходитъ красною нитью. Единовременно съ этимъ поэмы сіи суть нѣкія пролегомены къ тому, что представлялось и представляется нынѣ твореніемъ жизни моей, къ моему magnum opus: къ «Послѣднему Кризису» (далѣе – «П.К.»), трагедіи душевныхъ и духовныхъ исканій, гдѣ трагедія понимается какъ краса и краса какъ трагедія, эсхатологической мистеріи, пѣсни апокалипсической; о нёмъ вѣсти рѣчь, однако, покамѣстъ рано. Поэмы хронологически предваряютъ его и зачинаютъ основныя темы «П.К.». Скажемъ такъ: если «П.К.» – пѣснь закатная, то «Ex oriente lux» – пѣснь разсвѣтная. Вмѣстѣ съ тѣмъ, поэма тяготѣетъ и къ «Такъ говорилъ Заратустра», къ книгѣ, которая мнѣ всегда была дороже и ближе любого романа, да и иного любого творенія, относящагося къ изящной словесности.
Своимъ эстетическимъ призваніемъ, оправдывающимъ бытіе свое, своею главною эстетическою цѣлію разумѣю: являть и въ личномъ бытіи, но болѣе въ словесности, то, что было доселѣ скорѣе какъ исключеніе, крайне рѣдкое, рѣдчайшее изъ рѣдкихъ: съ одной стороны – дерзновеніе, духъ байроническій, духъ мѣтьюриновскій, духъ гомеровскій (но далеко не во всёмъ), – помножаемый – съ иной стороны – на горнюю неотмiрность, на выспренность (внѣшне – въ слогѣ – она выражается славянорусскимъ, имѣющимъ въ себѣ много отъ церковнославянскаго). Творить (а не вторить – какъ комментаторы), быть, а не имѣть (въ смыслѣ Фромма).
Въ сущности, лучшія книги пишутся для всѣхъ и ни для кого, онѣ не для привлеченія вниманія и шокированія читателя (это не по-господски); стоитъ ли упрекать Бердяева или Марка Аврелія, что они часто говорили, что бѣлое – это бѣлое, а зеленое – зеленое; во всякомъ случаѣ – что уже всё искупаетъ – они затрагивали темы важнѣйшія и говорили вѣрно, ибо обладали помимо благородства души еще и даромъ интуиціи и зрѣнія духовнаго; еще важнѣе: они жили такъ, какъ учили. Для меня оба этихъ автора – это домъ родной, но они хороши для начала пути.
Отличіе – очередное – критской поэмы – философское crescendo: начинается съ простушеской болтовни, быта, бытованія (со всѣми этими "тута" "хто идёть?") черезъ болѣе высокихъ – царя и царедворца (словомъ – Дворца) – къ высокому Акаю и сверхвысокому М.
Нѣсколько словъ о народѣ. Отсутствіе именъ у представителей критскаго народа – еще одна гностическая черта: въ Евангеліи Истины, гностическомъ памятникѣ иного рода, прямо говорится: не всѣ живущіе имѣютъ имена, что означаетъ: не ко всѣмъ обращенъ призывъ Бога-Отца, не всѣ укоренены въ Нёмъ и совершить возвратный къ Нему порывъ, дабы обрѣсть спасеніе, они, невѣдающіе гилики и психики, не въ состояніи: «Тѣ, чьи имена Онъ <Отецъ> предвидѣлъ, названы въ концѣ, такъ что нѣкто знающій – это тотъ, чье имя произнесъ Отецъ. Ибо тотъ, чье имя не произнесено – незнающій. Поистинѣ, какъ нѣкто сможетъ услышать, если его имя не произнесено? Вѣдь тотъ, кто незнающій до конца, – твореніе забвенія, и онъ исчезнетъ вмѣстѣ съ нимъ. Если, поистинѣ, нѣтъ у этихъ жалкихъ имени, нѣтъ у нихъ и призыва» (Евангеліе Истины).
Жанръ поэмы-въ-прозѣ есть жанръ особый: онъ не имѣетъ четко очерченныхъ границъ, находясь между прозой и поэзіей, между лирикою и прозою: рѣчь идетъ о смѣшеніи стилей и не только стилей; границы его подвижны; преобладаетъ лиризмъ; порою чрезмѣрная для прозы краткость и стремительность дѣйствія, на которое наслаиваютъ себя, играя первостепенную роль, лирическія (авторскія) отступленія, его разсужденія, носящія порою философскій характеръ; существованіе въ одномъ произведеніе двухъ регистровъ языка – высокаго и низкаго штиля; обличеніе эпохи милостью ироніи, гротеска, «смеховой культуры», иначе: обличеніе и даже низверженіе «прозы жизни» лиризмомъ; страстный поискъ правды; поучительность, или дидактичность; тема дороги, претворяющаяся въ первой критской поэмѣ въ тему стезей: стезей личнаго бытія, кое могутъ измѣнять, обладая выборомъ (безъ чего не можетъ быть никакой свободы), лишь высокіе и сверхъ-высокіе герои; музыкальныя повторенія; изрѣдка ритмъ: мерцающій ритмъ; приматъ субъективнаго – чувства и мысли – надъ объективнымъ – реалистическимъ бытописаніемъ, въ коемъ мало, слишкомъ мало авторскаго; образность, метафоричность, приматъ эстетизма надъ реализмомъ. Поэма-въ-прозѣ – помимо прочаго – говоритъ о переломномъ моментѣ эпохи, это не широкая панорама въ духѣ «Войны и мира» Толстого, но заостреніе вниманія читателя на отдѣльныхъ – краеугольныхъ и переломныхъ – эпизодахъ – казалось бы исторіи, а на дѣлѣ – на томъ средокрестіи, гдѣ метаисторія вливаетъ самое себя въ исторію, милостію чего «проза жизни» попросту упраздняется. Въ случаѣ съ первой критской поэмой именно вышесказанное рождаетъ, во-первыхъ, особую динамичность при внѣшней статикѣ (въ минойскомъ случаѣ: боготворящей динамику, ибо сама ею не обладаетъ; и чѣмъ меньше ею обладаетъ, тѣмъ болѣе боготворитъ: казусъ критское искусство и критское бытіе), во-вторыхъ, особую философичность написаннаго, которая усиливается чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе: въ этомъ философское crescendo, которое отнюдь не отмѣняетъ или не убавляетъ лиризмъ, но его дополняетъ.
* * *И послѣднее: о томъ, какъ говорятъ герои[89]. Въ поэмѣ разные герои говорятъ по-разному: герои и существа премірныя говорятъ языкомъ высокимъ и благороднымъ; челядь говоритъ языкомъ низкимъ и неблагороднымъ. Говоря точнѣе: одни – какъ имъ подобаетъ – глаголютъ; иные – «базарятъ» (то есть говорятъ языкомъ, свойственнымъ людямъ на базарѣ). – Ничего усредненнаго, какъ то читатель привыкъ видѣть въ романахъ позднѣйшаго времени[90]: никакого совѣтско-русскаго языка и орѳографіи, есть лишь вечноживой славянорусскій, черпающій себя – единовременно – изъ церковно-славянскаго и русскаго языковъ. О славянорусскомъ мы говорили въ III части «Rationes…». Но примѣнительно къ этой поэмѣ славянорусскій означаетъ: обиліе реестровъ рѣчи въ рамкахъ одного произведенія, главы, а иногда и страницы: говорить о низкомъ образомъ низкимъ, о высокомъ – образомъ высокимъ, какъ то ему свойственно. Синтезъ языка разныхъ эпохъ есть не только прорывъ, но и исходъ изъ эпохи: любой эпохи. – Я думаю, было бы неправильнымъ слишкомъ много думать, какое слово въ какую эпоху стало употребляться, а въ какую стало съ помѣткою «арх[91].»
Почему? Да потому что есть (хотя бы и меонально – отъ меональности оно ничуть не менѣе реально) единое вѣчно-живое поле Языка, гдѣ всё единовременно (съ позиціи Вѣчности) и гдѣ не можетъ быть человѣческихъ, слишкомъ человѣческихъ дѣленій архаика – модернъ – постмодернъ, ибо всё единовременно, всё со-существуетъ, и, конечно, разумѣющій современную литературную рѣчь не имѣющей въ себѣ ничего отъ церковнославянскаго и такимъ образомъ не являющейся также синтезомъ – только совдеповскимъ (вѣрнѣе, онъ шелъ по нисходящей еще ранѣе – уже съ Карамзина и Пушкина, о чёмъ говорится въ упомянутой моей статьѣ), горько заблуждается. Еще болѣе заблуждается тотъ, кто разумѣетъ позднюю, современную рѣчь болѣе предпочтительною рѣчи старой – особливо примѣнительно къ эпохамъ четырехтысячелетней давности; ибо лишь не-поздняя здѣсь единственно и умѣстна. Почему и для чего герои четырехтысячелетней давности должны говорить на современномъ русскомъ, который отчего-то мыслится иными какъ единственно гармоническій и живой? Въ качествѣ предпослѣдняго: кому рѣжетъ слухъ на одной страницѣ слова «яко», «крылія» и слова болѣе позднія («сущностно-разъединенной», «матеріализовалась») или же кто неспособенъ воспринимать не только ихъ взаимосочетаніе, но и ихъ самихъ, тому я могъ бы совѣтовать читать современное; въ концѣ концовъ, сколько всего пишется нынче, и лежитъ на прилавкахъ, и ждетъ великаго числомъ читателя. Но я вынужденъ напомнить имъ: языкъ новый есть тлѣніе: это беллетристика, не могущая быть (остаться) въ вѣкахъ; это не болѣе чѣмъ символъ кризиса временнаго. И послѣднее: для кого мои герои не слишкомъ живы и реалистичны, тому я отвѣчу: возможно, отчасти это и такъ, но всё дѣло въ томъ, что я и въ самомъ дѣлѣ невысоко ставлю живость, живенкость персонажей: они не живчики, но уста для идей; а огненность и трагедійное начало[92], выступающія фундаментомъ, хребтомъ произведенія и по нему разлитыя, а также философское измѣреніе, несвойственное въ цѣломъ изящной словесности, довершаютъ картину; философскаго измѣренія и впрямь едва ли не слишкомъ много въ моихъ текстахъ, чтобы они могли принадлежать къ изящной словесности; и слишкомъ много для русской словесности, если, конечно, считать её русской. – Нѣчто художественное, гдѣ философское разлито въ художественномъ – и не какъ масло на водѣ, но скорѣе какъ въ водѣ соль; философія – здѣсь остовъ, скелетъ, костякъ написаннаго; философичность идетъ по нарастающей – съ минимума въ началѣ, когда тонъ задаетъ бытоописаніе Крита и моя иронія (но сквозь бытоописаніе уже просвѣчиваетъ метаисторія, задавая тонъ и направленье повѣствованью) до максимума въ концѣ, когда художественное въ полной мѣрѣ возгоняется до метафизическаго, и откуда зримо, что герои были устами автора, ибо герои суть уста для идей.
Река жизни А.Блока оборвалась на середине – он надорвался, когда увидел, что вместо музыки революции, она вылилась в какофонию мещанства, оказалась всё той же суетностью, где масса серости накрывает волной отважных одиночек. Удел смелых одиночек не только жить в модусе трагедии, но и стоять над схваткой несущегося потока жизни. Музыка этих одиночек должна утверждать себя в контрапункте духоподъемности и жизнеутвердительности, а не в упадничестве пессимизма и бодрячестве оптимизма» (Анучинъ Евг. Изъ частныхъ бесѣдъ нач. 2020-го).
* * *Эллинизмъ, какъ извѣстно, – время синкретическихъ ученій, взаимовліяній, широкаго обмѣна идей, «діалога культуръ», и если Востокъ предоставлялъ разнаго рода религіозныя ученія, то Западъ (греки) – раціональный инструментарій своей мысли, оформляя и кристаллизируя восточныя прозрѣнія въ законченныя и стройныя системы. Йонасъ въ извѣстнѣйшемъ своемъ трудѣ «Гностицизмъ» сообщаетъ, что «…иудаистский монотеизм, вавилонская астрология и иранский дуализм <…> были, возможно, тремя главными духовными силами, вложенными Востоком в форму эллинизма, и они всё больше влияли на его позднейшее развитие». Важно, что тотъ же Йонасъ признаетъ, что сперва была эллинизація Востока, но послѣ – оріентализація Запада, когда Востокъ, вобравъ въ себя всё богатство грековъ, смогъ явить культурный прорывъ, создавъ болѣе сложныя синкретическія системы, гдѣ восточнымъ ядромъ было начало религіозное, а западнымъ – интструментарій, языкъ и пр. Востокъ повліялъ не только на простонародье, на греческую религію и миѳологію, но и на греческую философію, содѣлавъ её болѣе религіозной, болѣе мистической (неопифагореизмъ и неоплатонизмъ); философія подвигалась къ религіи, всё болѣе теряя свой только теоретическій и метафизическій характеръ; бездна между ними упадывала; этическіе вопросы стали вопросами наиглавнѣйшими; анализъ всё болѣе и болѣе уступалъ мѣсто догмѣ; поискъ счастья сталъ главною цѣлью философіи. Большинство философовъ отнынѣ имѣли восточное происхожденіе. Именно тогда – снова – засіялъ съ Востока свѣтъ. И засіялъ онъ для Запада, который словно сухая, старая, изсушенная земля, давно испытывающая жажду, принялъ въ лоно свое живительную влагу сѣдого Востока. Произошло религіозное обновленіе культурнаго міра Запада, клонившагося къ упадку. То было именно новая, своеобычная, оригинальная культура, являющая себя помимо традиціонныхъ ученій и религій – новыми теченіями мысли (которыя должно разсматривать вмѣстѣ): неопифагорействомъ, неоплатонизмомъ, эллинистическимъ іудаизмомъ, восточной магіей и астрологіей, мистическими культами Востока, христіанствомъ и, наконецъ, гностицизмомъ. Важно то, что вышеперечисленныя теченія не варились въ собственномъ котлѣ, а сопересекались и взаимодѣйствовали. То былъ, въ самомъ дѣлѣ, – «діалогъ культуръ», глубокихъ культуръ, ибо едва ли не всякая поздне-религіозная культура глубока. Общимъ для нихъ является: трансцендентный Богъ, идея спасенія, дуализмъ добра и зла, свѣта и тьмы, духа и матеріи, плоти, жизни и смерти, горняго и дольняго, тамошняго и здѣшняго. Вліяніе Востока на Западъ было, видимо, сильнѣе, ибо оно было глубже; Западъ много больше нуждался (и въ самыхъ верхнихъ пластахъ культуры, и въ низахъ) въ живительномъ дуновеніи новаго, онъ выдохся, духовныя его достиженія всё менѣе и менѣе удовлетворяли людей, творить новое онъ всё менѣе могъ; Востокъ же ни въ чёмъ не нуждался. Въ античной мысли начинаетъ преобладать этическое направленіе, которое такъ или иначе упиралось въ концѣ концовъ въ религію. Крѣпли религіозныя настроенія и чаянія, что открывало дорогу вліянію Востока. Возвышается роль мистицизма и откровенія, которое въ концѣ концовъ ставится на самую вершину. Философъ теперь – посредникъ межъ богами и людьми. Знаніе уступаетъ мѣсто вѣрѣ. Философскій эклектизмъ, представленный въ первую очередь новопифагорействомъ и новоплатонизмомъ если и удовлетворялъ, то лишь малую часть малой части общественности: отдѣльныхъ представителей духовной элиты. Массы алкали иного; иное нашли онѣ въ Востокѣ; восточныя божества, столь непохожія на западныхъ, проникаютъ въ римскій пантеонъ; теперь славятъ ихъ вплоть до Германіи на сѣверѣ и Галліи и Британіи на западѣ; особую извѣстность получилъ культъ Митры. Рождается синкретизмъ. И всё же иные изслѣдователи (напримѣръ, О.Группэ и проф. М.Э.Посновъ) разумѣютъ эллинизмъ не только слѣдствіемъ упадка, но и самымъ упадкомъ, не развитіемъ, а разрушеніемъ греческаго духа; но это касается только до философіи, промѣнявшей собственную мысль, исходящую отъ человѣка и человѣкомъ рождающуюся, на чечевичную похлебку восточныхъ откровеній, нисходящихъ отъ служителей чуждыхъ, восточныхъ божествъ; философія стала зависимою отъ неродныхъ авторитетовъ, раскачиваясь отъ строгаго стоицизма и аскетическаго новопифагореизма до разнузданнаго эпикуреизма; о культурномъ упадкѣ говорить не приходится (даже и по мнѣнію вышеназванныхъ ученыхъ мужей). Синкретическія ученія расправляютъ крылія еще за одно-два столѣтія до Р.Х.: многочисленными тео- и космогоніями, ученіями о происхожденіи человѣка, мистическими теченіями. Всѣ они носятъ безусловно религіозный характеръ. Важнѣйшими направленіями было: герметическое и мандейское. Оба, безъ сомнѣній, повліяли на становленіе гностицизма, потому что и были прото-гностицизмомъ или же попросту первымъ, раннѣйшимъ образчикомъ гностицизма, зачиномъ его; въ сущности, мандеи (арамейское manda=gnosis) суть гностики, знающіе и видящіе въ знаніи спасеніе; мандеи также извѣстны какъ назореи, но на дѣлѣ такъ они нарицали лишь наиболѣе благочестивыхъ изъ своей среды. Но гносисъ – для духовной элиты, а для народа – магія, мистеріи, культы[93]; это двѣ стороны одной медали, онѣ неразрывны.