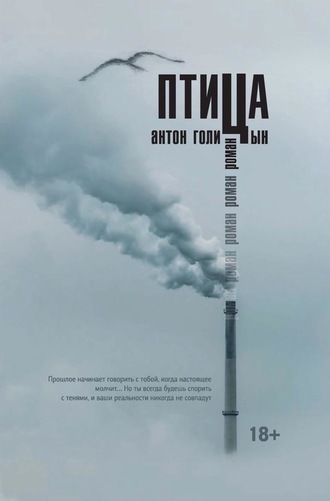
Полная версия
Птица
– Птица, Дохлый повесился.
* * *На поминки все пошли пешком. В большой комнате уже стояли столы с закуской, на табуретках ждали гостей накрытые покрывалами доски. За столом разместились еле-еле. Квартира была маленькой – сорок пять метров. Напротив меня сидел Флинт. Он да Птица – больше настоящих рок-музыкантов в Тачанске не было. Как-то так получилось, что после истории с крещением и первым концертом Птица и Флинт резко охладели друг к другу. А потом и вовсе не общались. Птица рассказывал мне, что как-то ночью пьяный пришел к Флинту в гости, а у того была женщина, и он Виталика не пустил. Похоже, смерть помирила и их. Флинт, который сам не раз смотрел в собственную могилу, поднял налитую до краев стопку и сказал:
– Он умер, как настоящий рокер.
Эти слова показались мне до тошноты банальными. Я подумал, что Птица на самом деле для многих собравшихся умер гораздо раньше. А для кого-то и вовсе не существовал.
Мать Виталика принесла запеченную целиком курицу и прямо на столе кромсала ее на части большим ножом. Женщина отрубала крылья птице четко и уверенно. Кости хрустели, но ни одна капля жира не упала на порядком заляпанную скатерть. Мать Витали работала поваром в ресторане. Не раз на кухне мы закусывали заветренными салатами и подрумянившимися кусками мяса – ништяками. Блюда, не доеденные посетителями ресторана, были разные, но запах у них почему-то был один. И я, хоть и считал себя панком тогда, почему-то думал, что это и есть запах нищеты.
В перерывах между короткими речами на разных концах стола вспыхивали и утихали пустые разговоры: «Как сам? А сам-то как? А слышал, что с Коляном?» Мне не хотелось ни с кем говорить, и я просто пил водку – стопка за стопкой, закусывая отвратительными солеными огурцами. Напротив сидела девушка, чья короткая юбка так возмутила меня на кладбище. Сейчас я мог разглядеть ее получше. Мелированные волосы забраны в хвост, слегка оттопыренные уши, в одном от мочки вверх спиралью поднимались маленькие серебряные кольца. Лицо, возможно, и было красивым, если бы не слой пудры, заметный даже через стол, неестественно яркая помада и пошлые синие тени под большими, как мне показалось, чуть влажными глазами. Нет, не красивая, скорее, фактурная, выпуклая, рельефная. Такая не сольется с серым тачанским пейзажем. В какой-то момент этим глазам надоело чувствовать, как их ощупывают, и девушка обожгла меня ответным взглядом. Я тут же отвернулся и наклонился к Сервантесу:
– Сервант, а это кто такая?
– Лена. Его бывшая. Иволга.
– Жена?
– Так-то нет. Года три назад они познакомились. Сначала везде вместе ходили. Она чем-то заменила тебя, занималась концертами, запись даже замутила в Текстилях. Там аппарат нормальный поставили, только дают тем, кто в кружках числится. Лена туда устроилась театральный кружок вести, она пед заканчивала. Птица даже завязал тогда – и с синькой, и с торчеством.
– А потом?
– Потом ему показалось, что Лена слишком много на себя берет. Типа делай так, так не делай. Ругала его, когда на репы не приходил. Когда пьяный выступал. Стали ссориться. Он еще бесился, когда мы говорили, что Лена права. А с полгода назад она уехала в Н-ск. Якобы нашла там работу. Я думаю, она спецом уехала, думала, Птица за ней поедет. А он остался. И тут уже отрываться стал по полной. Даже я с ним бухать боялся. С ним вообще старались не встречаться. Он всегда денег требовал. И дать страшно, знаешь, что проторчит или пропьет. И не дать страшно – орать начинал. Я вообще думал, что его мать как-нибудь убьет. Или отчим.
– Так он с ними жил?
– Не, у него своя квартира была на Павлика Морозова. Но там всё пропито. Один матрас. Жрать он сюда, к матери, ходил. Тут и инструмент, какой остался.
Захотелось курить, и я кое-как выбрался из-за стола. Пытаясь найти в прихожей свои ботинки, я заметил, что дверь в бывшую комнату Птицы приоткрыта. Заглянул – никого. В углу валялись поломанные гитары без струн, у окна разбитый барабан. На полке лежал маракас – быть может, тот самый, на котором я когда-то играл? Вещи словно чувствовали, что никогда больше не пригодятся людям, и казались мертвыми. Пыль клубилась посередине комнаты в косом луче, бог весть как проникшем сквозь занавешенные шторы. «Костик умер», – тогда мы так же сидели здесь в тишине и смотрели на те же бесчисленные миры, роящиеся в тонком солнечном луче. Я вдруг подумал, что Птица всегда пел про нее – про смерть. Что он всегда чувствовал ее присутствие. Что он не думал, как все, что смерть можно обмануть. Птица умирал несколько последних лет. Но он умирал и раньше. Он умирал всегда и всегда пел об этом. И еще я подумал, что, кроме меня, этого никто не поймет. Потому что я чувствовал то же самое. Что мы тогда играли?
«Восход над стенами». В этой песне Птице и Сервантесу лучше всего удалось передать бешеное напряжение текста. Сервант бил по всем четырем струнам со скоростью пулемета, а Виталик разрывал струны медиатором. В припеве говорилось о пути «сквозь туман – тяжелый, вечный», в конце которого «комбайн, друг беспечный» захватит «сначала руки, а потом глаза и уши, и поле синее проглотит наши души».
Я тогда удивительно четко представлял себе этот комбайн, перемалывающий мои кости, мозги и куски мяса. И в тот момент, когда машина выплевывала красный брикет, обтянутый стальной проволокой, из трубы сбоку вылетало что-то еще. Что-то еще, корчащееся от боли и страха, сморщенное, как кожа младенца, забрызганное невидимой кровью. Что-то еще, что расправлялось с каждым вздохом, втягивая в себя бездонную синеву.
* * *Я докурил сигарету и хотел вернуться в подъезд, когда из двери вышла бывшая девушка Птицы.
– Зажигалка есть?
Пламя зипповской зажигалки чуть не обожгло ресницы, и Лена сморщилась от запаха бензина. Я достал сигарету, еще одну.
– Тебя зовут – Андрей?
– Да.
Пауза.
– Слышала, – и снова молчит. Я разглядывал ее вблизи. Что Птица в ней нашел? Столько косметики – это пошло. Какое-то аляповатое ожерелье. Пирсинг этот детский. А ведь она, судя по всему, наша ровесница. Что-то надо спросить. Что-то сказать. Но перед глазами уже алкогольный туман, в котором трудно сфокусироваться на какой-то мысли. Кроме одной – Птица умер.
– Птица умер.
Зачем я это сказал? По фиолетовому облаку теней, по крупным гранулам дешевой пудры из левого глаза покатилась капля. Лена как будто ничего не заметила, всё так же глубоко затягиваясь и с усилием на выдохе выпуская струю дыма изо рта. Словно курение причиняло ей боль.
– Извини.
– Знаешь, у меня в жизни не было ничего другого. Ничего, кроме него. Наверно, это просто жизнь такая идиотская. Я хотела. Я пыталась. Я должна была сделать что-то. Но он ничего не давал. Мне иногда казалось, что он специально так всё делает. Убивает себя. И меня вместе с собой. И тогда мне стало страшно. Я знала, что будет так, что они его убьют, если меня не будет рядом.
– Погоди-погоди. Кто – они? Ты что-то об этом знаешь? Расскажи мне.
– Что ты ко мне пристал? Кто ты вообще такой? Езжай обратно в свою Москву! – ее голос перешел почти на визг, она бросила сигарету и побежала в подъезд. Краем сознания я еще понимал, что это какая-то глупость, какой-то фарс, может, даже сон, но ничего уже не смог поделать и кинулся за ней. Между первым и вторым этажом я настиг Лену и схватил ее за руку:
– Что ты знаешь? Кто его убил? Я найду этих уродов! Говори!
Но Лена вместо ответа разревелась и уткнулась лицом мне в плечо. Я инстинктивно обнял ее. Девушка обхватила мою шею руками, и я чувствовал, как колышется в такт рыданиям ее крупная грудь. Водолазка на плече намокла, и я почему-то вспомнил, что у меня больше недели не было женщины.

Не было жалости ни к ней, ни к Птице, а только к себе, к своей проигранной битве, к неудачной миссии, к жизни, зашедшей в тупик. Сверху, из квартиры Виталика, спускалось несколько человек. Они, судя по звукам, спотыкались и бились плечами в стены, видимо, были пьяны, как я. У меня возникло желание оттолкнуть Лену, но мне показалось, что девушку это обидит еще больше, чем мои слова на улице. Компания прошагала мимо, кто-то пихнул меня в спину.
– Только закопали, а она уже нашла себе. Вот ведь бабы, – услышал я чей-то голос.
В другой ситуации я бы нашел обидчика и устроил драку. А сейчас просто продолжал стоять, поглаживая грязные волосы всхлипывающей незнакомой девушки.
– Прости меня. Я просто очень напилась. Мне не надо было делать этого, – Лена оттолкнула меня и, шатаясь, пошла наверх. Я постоял еще несколько секунд и вышел из подъезда. На поминки я уже не вернулся.
Глава 4
Я проснулся только в четвертом часу дня. Водка и недолеченная простуда. Здравый смысл подсказывал, что делать в Тачанске больше нечего. Разве что найти и забрать последние записи Птицы. Я лежал и прокручивал в голове стремительный и безумный день похорон. Мысли, как блохи, перескакивали с одного эпизода на другой. Я придавливал их ногтем логики, и они лопались с легким противным хрустом. Всё, что я делал накануне, было безумием. Нет, не так я хотел вернуться. Всё было глупо, пошло и противно. Но одна мысль лопаться не хотела. Мысль о том, что Птицу убили не случайно.
Тачанский райотдел милиции располагался в старинном двухэтажном особняке из красного кирпича. Высокое крыльцо с литыми чугунными перилами венчала островерхая шатровая крыша, вызывавшая в памяти песню про отраду, живущую в высоком терему. Поднимаясь по лестнице, я вдруг подумал, что, скорее всего, именно здесь и располагался до революции полицейский участок. И именно здесь прошли последние часы подручных Тачана, – от оргии с красавицей Машей до бесславной гибели от мозолистых рук ткачей. Вот по этой лестнице вели, наверное, бессловесную девушку, еще не понимавшую, что ее ждет. И по ней же совсем скоро будет подниматься толпа таких же молчаливых бородатых и безбородых мужиков, буднично, как пастух хворостину, сжимавших в руках выдранные из огородов колья. Вряд ли у дезертиров были выставлены посты, быть может, они просто спали или резались в карты в одном из залов и даже не успели понять, какая опасность исходит от вечно покорных и тупых ткачей, боявшихся одного вида оружия. Я представил удивленное лицо первого бандита, в грудь которого кто-то с размаху засадил кривую палку, молчаливую сцену массового убийства, потоки крови, которые стекали с этой лестницы.
А еще подумал, что эти стены видели тысячи убийц и убийств, насильников и насилий, жутких не числом и деталями, а своей возведенной в абсолют бессмысленностью. Бессмысленностью, от которой нет лекарства, потому что природа ее непонятна. Или же схожа с природой самого русского человека.
В РОВД я заплутал в путаной анфиладе коридоров и тупиков, и едва смог найти кабинет Толика. Пухлый в ментовской форме сидел в большом кресле на колесиках (кажется, в магазинах оно именуется креслом руководителя). От постоянной езды линолеум под креслом протерся до цемента, и грязные края покрытия с торчащим ворсом жалобно загибались вверх.
Человек в кресле что-то писал на листке бумаги, одновременно стряхивая в пепельницу несуществующий пепел с потухшей сигареты.
– Приема сегодня нет, – не глядя на меня, злым механическим голосом произнес Пухлый. – По всем вопросам – к начальнику дежурной части.
– Толя, это я, Андрей.
– А, Андрюха, заходи, – Пухлый даже не посмотрел в мою сторону. Продолжая писать, он теперь мял окурком груду скрюченных бычков. – Погоди пять минут. Отчет закончу.
Пока Толик заканчивал, я успел рассмотреть его самого и кабинет. Пухлый давно уже был не пухлым. Крупный мужик со злым скуластым лицом. Выглядит старше своего возраста лет на десять. Единственный шкаф в кабинете был забит бумажными папками, на шкафу покоилась солидная офицерская фуражка. На полированном, местами протертом и прожженном столе – такой же мама купила мне, когда я пошел в первый класс – не было даже компьютера. Вот тебе и большой начальник, подумал я. Да нет, погоны майорские. Что же они руками-то пишут до сих пор?
– Ну, здорово, брат. Из Москвы? – Пухлый закончил писать и протянул мне руку. Я инстинктивно напряг мышцы ладони и не напрасно – хватка у майора была под стать прессу.
– Из нее, родимой. Что, отчетами замордовали?
– Не говори. Охренели в этом УВД. То статистику по раскрываемости им портим, то укрывательством преступлений занимаемся. На той неделе орали, что мы всякую мелочь регистрируем, а сейчас – что число выявляемых сократилось в два раза, и это укрывательство. Ну не уроды, скажи? Ну не пидоры, а? А еще нарики эти. Вчера разнаряда с обнона пришла, чтобы меньше грамма мачья дозы не изымали. Типа крохоборство! Хоть самим колись! Ну как там Москва? Не провалилась еще?
– Да нет, что ей сделается. Москва как Москва. Дома повыше, улицы почище, а всё остальное как здесь. Только у вас пробок нет.
– Да ладно, то же самое. Все бабки себе огребли и сидите на них. Я не про тебя, конечно.
– А я, Толя, по делу пришел.
– По делу?
– Знаешь, что с Виталиком случилось?
– Как не знать.
– Я хотел спросить твое мнение – кто это мог сделать и, главное, зачем.
– Тебе действительно интересно? – Пухлый ухмыльнулся.
– Да, а что тут такого?
– Ты ведь знаешь, что Птица – торчок.
– Да.
– И не знаешь, как умирают торчки. Нашли его в Балке, с пробитой башкой. Полные карманы шприцов. Варианта два: либо свои же замочили из-за дозы или по кумару, либо шпана – просто для тренировки. Они торчков и бомжей ненавидят.
– То есть у вас это две основные версии…
– Какие версии! Ты детективы не смотри на ночь. Никаких версий нет. Дело – глушняк. Я тебе честно скажу – если бы они его поаккуратнее ударили, мы бы судмедэкспертов уговорили написать, что помер от передозы. А так только статистику нам, гад, испортил.
Я вдруг разозлился.
– Пухлый, ты чего? Это же Птица! Это Виталик! Ты что – забыл? Как в пробки вместе играли, как мульты смотрели, как на помойку ходили, как водку нам дядя Вася покупал, как на гитаре он тебя учил играть. Ты ведь бабу первую трахнул после того, как песни ей пел в Новый год – которым тебя Птица научил! Это друг твой, Пухлый! И мой друг! И такого у тебя и у меня никогда не будет! Статистика, твою мать. Тебе его не жалко?
– Эй, эй, не ори. Не на сейшене. Мне его жалко было десять лет назад, когда он торчать начал. Когда я его первый раз забрал и в КПЗ посадил, чтобы он переломался. А через месяц он снова заторчал. И я уже ничего не мог сделать. Потому что если человек себя убить хочет, он себя убьет. Сансара такая. Ты хоть понимаешь, что столько они не живут вообще. Это чудо, что только сейчас. Реально он давно уже был труп. И вообще, кто бы тут о дружбе говорил. Сидел там в своей Москве, а мы тут в говне ковыряемся. Раз друг такой, так приехал бы раньше и помог.
Мы замолчали.
– Ладно, Толян, извини. Погорячился.
– Да херня, бывает.
– Слушай, но вообще шансы-то есть поймать этих уродов?
– Честно?
– Да.
– Нет. И не потому, что нельзя, а потому, что искать никто не будет. Ты обо мне плохо не думай. Я как узнал, сразу всех наркомов, кто с ним был знаком, перетряс. Они обычно быстро колются. Но никто – ни сном ни духом. И вообще были на Сортирах в тот день, и свидетели есть. Один он в Город поехал, и в Балку один ушел. Теперь следствие будет заниматься. А у следователя таких дел штук двадцать, и план по раскрываемости. И следователь выбирает единственно правильный путь для своей личной задницы: берет то, что реально хоть как-то раскрыть и до ума довести. А чтобы это дело попробовать раскрутить, нужно всё бросить и только им одним заниматься. И то без гарантии. Но это не в моей власти. И даже не во власти начальника УВД. Потому что так просто не бывает.
– То есть ты хочешь сказать, что раскрыто оно не будет.
– Почему? Может, и будет. Кто знает. Но только чисто случайно. Если мы возьмем жулика по какому-то другому делу, а ему вдруг в рай захочется, и он устроит нам массовое покаяние. Так тоже бывает. И нередко. Сансара такая.
– Карма.
– Что карма?
– Карма, а не сансара. Карма – это судьба, а сансара – это что-то другое.
– А не один ли?
– Тоже верно. Слушай, а ведь начальником РОВД вроде был твой дядя. Он еще работает?
– Нет, помер.
– Жаль. Хороший был мент. Честный.
– Хороший мент честным не бывает.
– Ну ладно, Толян, пойду я. Давай только, если жулик вдруг сойдет с ума и решит исповедаться, ты меня наберешь.
– Договорились. С тебя тогда пузырь. Но не надейся особо.
Я вышел из РОВД и побрел по какой-то улочке в тени тачанских тополей, огромных, как баобабы. Воздух пах вечерней травой – позабытым, вечным запахом наступающего лета. Несколько минут – и я вышел на Советский проспект. Он шел прямо по вершине холма, и дорога медленно поднималась к горизонту, обнимая горб земли. Странно, но ни прохожих, ни авто на проспекте не оказалось. Лишь где-то вдали тень сгорбленной старухи с авоськой плыла к линии отреза дорожного полотна, куда миллиметр за миллиметром погружался огненный шар заходящего солнца. На разделительной полосе, над замершим проспектом, приготовились к прыжку гимнасты-фонари.
Мне нечего больше делать здесь. Всё оказалось не так. Слишком не так. Непривычно не так. Я привык рассчитывать всё точно и почти никогда не ошибался. Московская жизнь была похожа на программу: нажимаешь привычную комбинацию клавиш – получаешь нужный результат. Если комбинация неизвестна, ее можно подобрать. Главное знать, что все программы, как цыплята-бройлеры, вышли из одного яйца. А может, мне просто всегда везло? Но почему тогда не повезло сейчас? Виталик не дождался всего несколько часов. Несколько часов, которые бы подарили ему новую жизнь, позволили бы вырваться из – тут я вспомнил – колеса сансары. А мне дали бы… Что бы дали мне? Может, успокоили не совсем заснувшую совесть. Может, новый смысл. Теперь уже не узнать. И всё из-за каких-то неведомых отморозков, скорее всего, не слышавших ни одной песни Птицы. Конечно, Пухлый прав. Смерть Витали была случайной, нелепой, неожиданной закономерностью. Логичным финалом, концом компьютерной игры тачанских наркоманов. Которую судьба-вирус забросила на мой ноутбук через USB-порт ностальгии: на, получай, – две мечты не сбываются. Ты и так получил достаточно, выбравшись отсюда. Захотелось поиграть в фею-крестную? Многовато чести. Здесь фея приезжает на тонированной черной девятке с белым порошком в кармане, если, конечно, есть кэш. Или ангелом-избавителем приходит с обрезком трубы в полынном бурьяне за городом.
Нет. Так не пойдет. Всё просто, слишком просто. И очень удобно для того, чтобы забыть про Птицу и его песни. Что говорила эта девушка, бывшая Витали? Они убили его. Кто такие они? Пухлый не будет выяснять. Он слишком хорошо всё знает. И слишком не удивляется всему. Может, всё было именно так. А может, и нет. У меня слишком мало фактов, чтобы судить. В конце концов, отпуск. Есть месяц свободного времени. И я потрачу его на то, чтобы закрыть эту тему в своей жизни навсегда. Я вдруг понял, что не успокоюсь, если уеду прямо сейчас и буду ждать результатов расследования. Их просто не будет.
Я сам найду убийц Птицы.
Глава 5
– Здравствуй, Иван.
Я протянул руку. Ваня секунду помедлил, вздохнул и протянул свою. Чужие косточки неприятно хрустнули в моей ладони – священник не ответил на рукопожатие и чуть поморщился. А что он хотел? Не целовать же руку бывшего одноклассника.
– Не называй меня Иваном. Я теперь Георгий. Отец Георгий.
– Уже отец? – я не сдержался и хрюкнул. – Поздравляю.
– Ты неправильно понял. Я монах. Иеромонах. Зачем пришел?
– Поговорить. Пойдем в машину?
Иван посмотрел на машину за моей спиной, и в его глазах мелькнуло оживление. Ну а какой мужик не хочет хотя бы посидеть в такой тачке?
– Нет, братия не поймет. Пойдем лучше в кедровник.
Мы миновали вертушку своего рода проходной и вышли в монастырский двор. Я с трудом узнавал внутреннее пространство. Мы часто бывали здесь сразу после того, как тюрьма переехала в новое здание. Тогда во дворе громоздились останки ЗИЛов и УАЗов, ржавые механизмы непонятного назначения, мотки колючей проволоки. От храма оставались только стены. Крыша провалилась еще до отъезда тюрьмы. Я слышал, что кому-то из тюремного начальства пришла в голову идея сделать в церкви кинозал. Вместо иконостаса натянули экран, поставили проектор, но смотреть кино мешали железные стяжки, идущие от стены к стене. Они отражались на экране черными горизонтальными полосами, и тюремное начальство решило их спилить. То, что стяжки удерживали трехсотлетние стены, поняли лишь после того, как во время просмотра ленты «Ленин в Октябре» на зрителей рухнул центральный купол. Почти все, кто смотрел фильм, погибли.
Впрочем, вид отреставрированной церкви меня не удивил. Как не удивил и опёнок спутниковой антенны, прилепившейся к пню-колокольне. Удивил сам двор, больше похожий на европейский парк, с кустами роз, подстриженным газоном, посыпанными гравием дорожками и аккуратно уложенными плитами старинных захоронений. Неужели сохранились с дореволюционных времен? Или это имитация, каприз дизайнера? Бред, какой дизайнер в захолустном монастыре…
Мы дошли до беленой стены и нырнули в арочку-калитку. Здесь, за невысокой оградой, росли кедры, сумевшие пережить и монастырь, и концлагерь, и тюрьму, и время, когда остатки тюремного имущества растаскивали жители Сортир. По местной легенде, эти кедры росли тут всегда, еще до основания монастыря и самой слободы. Говорили, что именно здесь отшельнику Алексею явилась на дереве икона Богородицы, во имя которой был назван сначала скит, а потом и монастырь. Рассказывали, что икона эта пропала во время разгрома монастыря красными, но годы спустя то один, то другой житель Тачанска видел ее в гуще кедровых веток. Якобы однажды образ на дереве увидел начальник тюрьмы, тот самый, что устроил в храме кинозал, и даже вызвал зеков, чтобы те сняли икону. Несколько человек отказались, а тот, кто всё же решился влезть на кедр, упал и сломал себе шею. Байка, конечно.
В отличие от главного двора, кедровник больше напоминал лес. Но не обычный русский лес, а какие-то райские кущи с пронзительными лучами солнца в редком подлеске, нежными метёлками новорожденных кедров и величественными красноватыми стволами. Мы отыскали скамеечку под большим старым деревом и сели.
– Слушай, никак не могу называть тебя отцом. Можно просто Георгием?
– Да хоть горшком, только в печь не ставь, – усмехнулся Ваня.
– Окей. То есть как скажете, ваше преосвященство.
Ваня наконец разулыбался, как будто вспомнил наши игры в мушкетеров лет двадцать назад. Он сидел, поглаживая пока еще жиденькую бородку и глядя вверх.
– Не, преосвященство – это епископ. А я всего лишь простой иеромонах. Ну, рассказывай, зачем пожаловал.
– Я хотел поговорить про Виталика. Про Птицу. Говорят, он общался с тобой в последнее время.
– А, вот ты о чем. Вернее, о ком. А зачем тебе это?
– Видишь ли, – я подумал, что скрывать от священника мне нечего. К тому же я что-то слышал про тайну исповеди. Тут хоть и не исповедь, всё равно нет никого, кому бы он мог это рассказать. – Я хочу найти его убийц. Или попробовать найти. Менты заниматься не будут, для них это слишком мелко. А я давно не был в Тачанске. Мне интересно всё – с кем он встречался, были ли у него враги и друзья, о ком он, может быть, плохо говорил, кого или чего боялся…
– Зачем это тебе?
– Я вроде внятно объяснил.
– Зачем ты хочешь мстить? Это не дело человека, это дело Бога. Спаситель даже на кресте молился за убивающих его, говоря: «Прости их, Господи, ибо не ведают, что творят!» Око за око, зуб за зуб… Это истина Ветхого Завета, иудеев, истина старого мира. Не месть, но любовь должны мы нести в мир. Совершая месть, злясь, мы умножаем зло. Убийцы Виталия и так будут наказаны, потому что вряд ли когда-то раскаются в этом грехе. Но мы должны верить и надеяться. На то, что и их души могут спастись.
– Георгий, здесь не воскресная проповедь, а я не паства. Я взрослый человек, со своими убеждениями. Мне не нужна душеспасительная беседа, мне нужна информация.
– Ты сам не понимаешь, что ты говоришь.
– Очень хорошо понимаю. Может быть, ты и прав. Но твоя истина – она твоя, а не моя. Я думаю по-другому. И потом, я не собираюсь душить их своими руками. Просто передам информацию Пух…, то есть в милицию. Православная церковь, наверное, не отрицает закон и правосудие?
– Нет, не отрицает. Что ж, делай как хочешь. Мое дело предупредить.
От священника исходил странный запах. Вроде бы это был запах ладана, которым кадят в храме на утренней службе. Но этот был какой-то жесткий, концентрированный, убийственно чистый, как запах хлорированного средства для мытья туалетов. В верхушках кедров загудел ветер. Здесь же, в подлеске, по-прежнему было тихо. Думать тут о таких странных вещах было противоестественно. Но у меня была цель, от которой я не собирался отступать.


