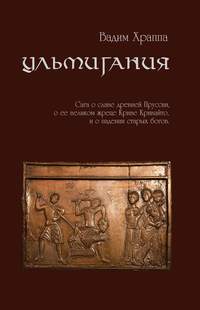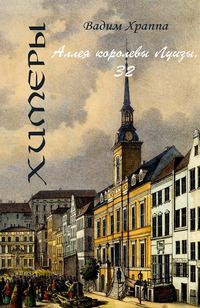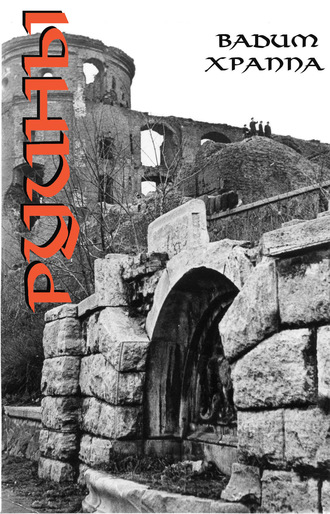
Полная версия
Руины
Отваге его не было пределов, но силы его были конечны…
И проклятия ее были страшны и пронзительны, но никто их не слышал…
И бросили их с самой высокой горы…
И долго им вслед летели камни и шелестели плевки…
И нет больше в том народе ни чести, ни верности.
И нет больше в мире надежды.
Когда тебе восемнадцать
В сушилке стоял крепкий кислый запах высохших до хруста портянок и распаренных сапог. Воняли и валенки, и все сто двадцать бушлатов на стенах, но портянки и сапоги забивали их запах.
И было душно. От спетого ядовитого воздуха, и от жары лоб и нос сразу покрывались испариной. Терпеть все это было тяжело, но все же легче, чем минус сорок на улице. Ясюченя уже оделся, но сидел на прутьях решетки для сапог тихо, не двигаясь, нутром впитывая тепло впрок, и смотрел, как медленно, с закрытыми глазами, наматывает портянки Толстик. Тот натужно сопел вечно забитым носом, и на его толстых разлапистых губах висели мутные слюни. Шея была в серых разводах и фиолетовым пятном – чирий. Портянки он намотал неправильно и теперь не мог запихать ногу в валенок, но с ленивым упорством совал ее, и валенок распирало от узлов. На призывном пункте в Молодечно они были вместе, и Толстик тогда был единственным хорошо одетым.
«У меня ничего хуже нет», – сказал он тогда.
И в это верилось. Толстик казался интеллигентом или сынком очень интеллигентных родителей. Ясюченя никогда бы не поверил, что за полгода можно так опуститься. А поверил бы он, что самому придется застилать по утрам постель умственно недоразвитому аварцу? Черт с ним, с аварцем. Главное: вытерпеть, выжить, сжаться в комок, прикусить зубами чувства, впасть в спячку, как барсук, и перезимовать. Два года это не вся жизнь, это только – два года. Забыть о них, вычеркнуть, оставить дурным сном.
Вот проснемся – разберемся.
Все будет в порядке, все будет хорошо. Толстик вот, кажется, вообще ни о чем не думает. Нормальный человек за полгода превратился в грязное животное. Карманы вечно набиты хлебом, и он прячется по углам и там жует его. Посмотреть бы на него потом, на гражданке. Таким и останется или опять станет интеллигентом?
В сушилку зашел Иванов и не закрыл за собой дверь. Потянуло прохладой от двери и зубной пастой от Иванова. Сегодня дежурным по роте ноябрьский ефрейтор, всего на полгода старше призывом. Калининградцы в такие дни вставать на снег не торопятся. Это не обидно. Пока они, лежа в постели, отбиваются от ефрейтора, можно лишних двадцать минут посидеть в сушилке.
Иванов тихо ругался. Ясюченя хотел сказать ему, чтобы он закрыл за собой дверь, но не сказал – все равно не закроет.
– Я сегодня к вам на динамную сталь, – сказал Ясюченя.
– Зачем?
Иванов повернулся. У него была свежеразбита нижняя губа.
«Вчера еще этого не было», – подумал Ясюченя и пожал плечами:
– На известковом уже нечего делать.
Иванов кивнул и аккуратно намотал сначала фланелевую потом войлочную портянку. Притопнул валенком.
– Толстик! – сурово сказал он. – Иди, подмывайся. Сегодня я тебя ебать буду.
Толстик сделал вид, что не слышит, но видно было, как опасливо он покосился.
Иванов притопнул другим валенком и стал затягивать пояс у ватников.
– Ты что, сука, оглох? Или борзеть начинаешь? – рявкнул он, и Толстик машинально втянул голову в воротник засаленного кителя, пряча ее от удара, хотя Иванов и не собирался его бить. У него не было пряжки на одной лямке ватников, и он был занят стягиванием в узел коротких концов.
Толстик стал одеваться быстрее. Иванов никогда его не трогал, а раньше, до того, как ноябрьские поставили Толстика раком на второй смене, не давал трогать его и никому из своего призыва.
Толстик, застегивая ремень на огромном рваном бушлате, подошел к Ясючене.
– Виталик, дай закурить, – попросил он, глядя в сторону, в черное зарешеченное окно.
Ясюченя не ответил, и Толстик стал торопливо пятиться к выходу.
– На, – сказал Иванов, и бросил ему сигарету.
Толстик не поймал ее, уронил, но быстро подобрал с пола и вышел.
– Что же ты своих земляков не уважаешь? – спросил Иванов. – Как на гражданке, так, небось, вместе свою бульбу лопали.
– Я в рот ебал таких земляков, – сказал Ясюченя.
Иванов посмотрел на него, слегка скривив свои разбитые губы.
– А пошэму Кусьмин нэ хошэт встават? – послышалось из коридора.
– У него же ноги гниют, – ответил голос ефрейтора-дежурного.
– У мэнья тошэ мошэт книют! Пошэму я иду на снек, а Кусьмин нэ хошэт?
Иванов прислушался.
– Каппаун, что ли? – спросил он.
Ясюченя кивнул.
Иванов бросился к выходу из сушилки, и Ясюченя пошел за ним – посмотреть, что там происходит?
Иванов и Тюрин уже приперли Каппауна к лакированным рейкам стены в углу у тумбочки дневального. Тюрин локтем придавил эстонцу горло, и у того из открытого рта высунулся язык.
– Ах ты, тварь нерусская, – шипел Тюрин. – Ты что, гнида, хочешь, чтобы тебе язык вырвали?
Иванов коротко, но основательно, будто вбил гвоздь, всадил Каппауну кулак в солнечное сплетение. Каппаун захрипел и стал оседать по стене. Он был здоровый этот эстонец, на полголовы выше и Тюрина, и Иванова, и Тюрин с трудом подтащил его снова вверх.
– Еще раз откроешь свою гнилью пасть – убьем, – тихо сказал Иванов.
Тюрин убрал руки, и Каппаун присел у стены, потом медленно поднялся и вышел из казармы.
Дневальный, хохол из их призыва, равнодушно смотрел, как клубится пар возле закрывшейся за эстонцем двери. Ефрейтор-дежурный был где-то внутри, в темноте храпящей и стонущей, и смеющейся во сне, роты. Ясюченя вдруг подумал, что этот ефрейтор, наверное, побаивается калининградцев. Не всех, конечно, но вот этих троих – Тюрина, Иванова и Кузьмина. Подумал, но не удивился. Он в последнее время не удивлялся.
Они вытащили из-за пожарного щита лопаты и огромный, сваренный из листа железа и арматуры, скребок, и стали убирать свою часть плаца. Тюрин и Козий впряглись в скребок, а Иванов управлял им. Сгребали снег к краю, а остальные откидывали его лопатами за бордюр.
– Дывысь, з других рот ще никого нэмае, – сказал Опудало.
– Это их дело, – сказал Ясюченя.
Он воткнул деревянную лопату в сугроб и закурил. От дыма на голодный желудок стало немного тошнить. Он затянулся еще пару раз, забычковал и сунул окурок в карман ватников.
– Эй! – крикнул Тюрин. – Вы там пошевеливайтесь! Может, перед подъемом еще погреться успеем.
«Какая, к черту, разница!» – подумал Ясюченя, но работать стал быстрее.
Вышли молодые москвичи из карантина и тоже стали убирать снег. Неуклюже, еле ползая.
– Скорее бы салаг до нас прислали, что ли… – сказал кто-то. – Все-таки полегче будет.
– Говорят, их не будут раскидывать по ротам. Так и оставят – молодую роту.
– Откуда ты знаешь? – спросил Ясюченя.
– Говорят…
– Что же, мы так и будем въебывать до конца?!
– Хреново, – сказал Говор. – Мне нужна хорошая шапка.
– Пойди, да сними.
– Там за ними смотрят. Я думал, когда в роту придут, заберу.
– Насрать мне на твою шапку! – сказал Ясюченя. – Что же, мы так и будем, до дембеля, на полах заезжать?!
– Да чего ты ко мне-то прицепился? Пойди к комбату, скажи ему, что не хочешь заезжать. Может, послушает.
– Еби твою в душу мать! – сказал Ясюченя.
– Надо будет на работе у них шапки посдирать, – сказал Говор. – Я знаю, где они работают. В обед сходим.
– Тебя потом ёный старшина здярот…
– Это Гулый?! Пошел он к ебени матери. Я ему на голову потом кирпич скину.
– Гляди, они уже в роту пайшли.
Иванов и Тюрин пошли в казарму, а Козий потоптался возле двери, но зайти не рискнул, а встал на веранде, закурил и стал ждать остальных.
– Давайте быстрее, да тоже пойдем, – сказал Ясюченя.
Снега оставалось немного, и они его быстро убрали.
Ясюченя дальше сушилки не пошел, а сел в угол, зарывшись в бушлаты. До шести оставалось минут тридцать, и можно было поспать. Здесь, в сушилке, Мамедов не сразу его найдет и, может, сам свою койку застелет.
Ясюченя уснул мгновенно, и тут же:
– Подъем!!!
Он встрепенулся, но вовремя вспомнил, что вскакивать не нужно, и только еще плотнее вжался в бушлаты. В казарме затопали.
– Рота, отбой!!! – вдруг резкий голос Саидова, от которого у Ясючени стало холодно в животе.
Топот, и все стихло.
– Подъем!!! – тот же голос.
Топот.
– Отбой!!!
Ясюченя знал, что сидящего в сушилке это не касается, но все равно было страшно. От такого подъема можно ждать чего угодно. Правда, больше часа это не продлится – опоздают на завтрак и на работу. Но – страшно. И никуда от этого страха не деться. Это очень страшно – услышать резкий, с чеченским акцентом, злобный голос Саидова.
– Что, суки, окабанели?!! Я вас научу, блядей, подниматься!!!
– Подъем! Засекаю время. Сорок пять секунд. Кузьмин, тебя что, падла, это не касается? В санчасть иди со своими ляжками! Если не положат, будешь прыгать у меня, пока не издохнешь! Тюрин! Ты что там свое рыло кривишь? Меня это не ебёт! Сюда иди! Отбой! Подъем! Отбой! Подъем! Отбой! Рота, подъем!
Топот.
– Становись! Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Отставить! Равняйсь! Смирно!
– Черныш! Ты что, ебаный потрох, стоять не можешь?!
Глухой удар и грохот опрокидываемых табуреток.
– Сгною на полах, ублюдки!!!
В сушилку зашел Кузьмин. Взял бушлат, надел валенки и вышел.
– Так ты что, сволочь, стоять не можешь?!! Поправь табуретки! По ниточке! Бегом, скотина!!!
Удар. Грохот.
– Поправить табуретки! Я вас научу, блядей, подниматься! Окабанели!!! Умываться! Через пять минут построение на улице. Что б постели были, как кирпичики. Что б углами масло резать можно! Проверю! У кого помято – выебу и высушу! Сгною на полах! Тюрин, я тебе, сучий потрох, ведро подпишу! Будешь у меня, пока на дембель не пойду, на пола заезжать! Разойдись! Ногаев! До завтрака – строевая подготовка. Всей роте!
Через несколько минут последние призывы топтали по периметру плац.
Ногаев сам замерз и держал руки в карманах бушлата, но выкрикивал команды тонким голосом, ругался и делал зверское лицо, подражая Саидову. Два раза он ударил Толстика, и у того по подбородку текла из носа кровь. Досталось и Ясючене. Ногаев пнул его в зад и попал сапогом по кобчику. Ходить было больно и трудно.
– Выше ногу, ублюдки! – вопил Ногаев.
Голос у него был гадкий, бабий, срывающийся на фальцет. Он все время норовил съездить кому-нибудь по носу – ему нравилось, как идет кровь, и целил именно в нос, но все это знали и старались вовремя увернуться. Не трогал он только ноябрьских – им вообще было полегче – и Иванова с Тюриным. Он у себя в Дагестане занимался какой-то своей национальной борьбой и, когда узнал, что Иванов дзюдоист, предложил побороться. Иванов отказывался, но Ногаев пригрозил, что устроит на полночи «подъем-отбой». Иванов сказал, что будет бороться, только без зрителей.
– Что, ссышь? – оскалился Ногаев.
– Я тебе подорву авторитет, – сказал Иванов.
Видно было, что Ногаев хочет съездить его по носу, но сдерживается. Они пошли куда-то за казарму. За ними все же увязались старики. Потом пришли. Ногаев держал рукав от кителя и разбил несколько носов. Все это еще больше укрепило положение Иванова и его друзей. Они как бы постарели на полгода. Ноябрьские относились к ним, как к своим. Но были старики, которым это не нравилось. А трое калининградцев лезли на рожон. Но, самое главное: их не любил Саидов.
Ни у кого не было часов и то, что пора идти на завтрак, можно было определить только, когда вышли бы на плац другие роты. Но они не выходили. А часов ни у кого не было. У Ясючени подарок отца, японские электронные, забрал Мамедов, а у того их выменял на финку ингуш Завгаев. Потом Завгаев кому-то их продал, и теперь вообще неизвестно где они? То, что отняли немного денег и красивый импортный бумажник, это черт с ним, но подарок отца сначала было очень жаль. Потом Ясюченя привык и даже стал забывать об этом. А сначала пытался жаловаться командиру роты, но тот сообщил об этом прямо Завгаеву. Ясюченю здорово потоптали ногами в сушилке. Хорошо хоть не завернутого в одеяло. В их роте такого еще не было, а в других… Говорят, по одеялу бьют табуретками.
Пошел снег. Крупными, с кулак, кусками, и густо. Стало теплее, но снег падал на лицо и за шиворот, и там таял. Ногаев ушел в казарму и выгнал командовать на плац ефрейтора-дежурного. Понемногу стали выползать на завтрак другие роты. Ходить стало веселее. Потом прямо с плаца роту погнали в столовую.
В дверях Ясюченя потянул носом. Пахло силосом из капусты, мороженой моркови и почерневшей картошки. Все это крошево было разбавлено теплой водой и называлось "рагу". Им кормили уже целый месяц.
За их столом сидел только один азербайджанец и допивал чай с жирно намазанным маслом куском белого хлеба. Миска из-под мяса была пустой, хлеб остался черный, а в плоской алюминиевой тарелке было три куска масла. Это – на шестерых. Зато черный хлеб остался весь. Старики его не ели. Их отделению не повезло, за столом было сразу четыре старика. После них ничего не оставалось.
Ясюченя сел на крашеную суриком скамью и тут же вскочил. Боль проткнула позвоночник. Все-таки сильно Ногаев достал его.
– Что скачешь? – ощерился на него Саидов и замахнулся тяжелым черпаком.
Ясюченя быстро сел. Боком, на одну ягодицу. Боль, хоть и не так, но чувствовалась.
Съел свою долю силоса и пять кусков хлеба. Выпил теплый желтый чай, отдававший жженым сахаром. Поговаривали, что чай такой желтый оттого, что в него добавляют какую-то гадость – «противостояние». Но Ясюченя знал, что это – ерунда. Когда он лежал в санчасти с грибком на ногах, то видел, как санинструктор сыпал в котлы с чаем аскорбиновую кислоту. И больше ничего.
Где-то в углу столовой, ближе к выходной двери, зародился грохот и стал расти так, что хотелось зажать руками уши. Ясюченя только потом сообразил, что провожают последнего дембеля. Сообразил, когда увидел, как гордо тот несет посуду со своего стола. Это традиция: дембель в свой последний день съедает все масло, которое он не ест месяц перед этим, и самолично несет посуду. Отряд в это время стучит, чем попало и по чему попало, лишь бы громче, кружками, от которых веером разлетается эмаль, черпаками, мисками, ложками, чем придется. Посуду нес рослый чеченец из второй роты в спортивных штанах, в тельняшке, в шлепанцах на босу ногу, в офицерской шинели с погонами прапорщика, но без звездочек.
По столовой из конца в конец бегали взъерошенные офицеры, пытаясь остановить бешенство шестисот человек в щепы разносящих, недавно закупленной посудой, деревянные столы. И – шесть сотен орущих глоток.
Ясюченя тоже орал и лупил двумя руками, кружкой и ложкой по миске.
Чеченец донес посуду, поставил ее в окно перед испуганным евреем посудомоем и театрально вышел вон. Гром оборвался. Все принялись доедать.
Пока комбат хрипел на разводе по поводу разрушенной посуды, Ясюченя промерз так, что не верилось, что можно когда-нибудь оттаять. Он стоял и прятал в воротник то одно, то другое ухо и чуть не выл от боли в них. Они были уже обморожены однажды и теперь нестерпимо болели от холода.
В задних рядах кто-то с громким треском выпустил газы. В роте засмеялись. Ясюченя не мог без риска обернуться, чтобы посмотреть, кто это, но знал наверняка – Мамедов. Только у него хватало такого остроумия. Но было не до смеха. Очень холодно. Мозги замерзли и потрескивали. Казалось, он замерзнет, не доехав до стройки, и это не было страшно, страх тоже замерз. Но комбат выдал последние матюки, отряд протопал перед трибуной и, через КПП, вышел к машинам. Можно было опустить уши у шапки.
Ясюченя влез через борт в кузов, привалился к стенке фургона и так застыл, потихоньку примерзая к скамье. Мамедову было холодно сидеть на голых досках, и он сел на колени Ясючене. Но так Ясючене было даже теплее. Он только опасался, что Мамедов станет слишком часто пускать газы. Ногаев затянул нудную ногайскую песню, и ее подхватили кумыки, аварцы, даргинцы и даже кто-то из Чечни. Потом азербайджанец Ахмедов стал петь песни из индийских фильмов, и остальные подвывали ему. Они попытались заставить подвывать и молодых, но из этого ничего не вышло. Время от времени старики прерывали пение, чтобы поорать на прохожих. Когда ехали через город, люди испуганно шарахались в стороны, уворачиваясь от комьев ругани и льда, сыпавшихся из машины.
Ясюченя заметил, что у Мамедова побелели уши, но не сказал ему об этом. Черт с тобой, собака, подумал он, хоть бы они у тебя отвалились, наконец. Подумал медленно, лениво и без злобы. Просто так: неплохо бы у тебя, собаки, отвалились бы уши. Он посмотрел на черный бугристый затылок – чурки никогда не опускали клапанов у шапок, считали западло – и представил Мамедова без ушей. Это ничего не изменило в его внешнем облике. Вот бы, отравить тебя, – подумал он. Или встретить на гражданке в Молодечно, да заставить собственное говно жрать. Подумал, но тоже без злобы – научился.
Из машины вывалились быстро и – по бытовкам. Единственная отрада, что в их бригаде был один чурка – Ахмедов. Ни рыба, ни мясо. Особенного вреда от него не было. Он иногда закладывал Саидову или Ногаеву, но не часто, и сам редко к кому лез. За это с ним делились тем, что получали из дома в посылках через гражданских сердобольных теток из бригады. В бригаде, кроме троих калининградцев, трех белорусов, двух хохлов и Ахмедова было несколько химиков[1] с разными сроками, в основном по двести шестой[2], и четыре вольных тетки, две из которых – химички в прошлом. Хорошие, добрые тетки. На их адрес можно было получать посылки. Про одну говорили, что она убила мужа, но никто в этом не был уверен. Она была самой жалостливой и веселой, и все время пела песни.
Ахмедов сел писать письма.
Иванов с Тюриным взяли отбойный молоток, и пошли в подвалы пробивать дыры для силовых кабелей, которые проектировщики умудрились не запроектировать. Остальная часть бригады разбрелась по цеху подметать и кое-где залить бетоном огрехи строителей.
Бетона была заказана только одна машина, но и ее оказалось с лихвой. Почти половину кучи пришлось на тачках перевозить к разбитому окну и через него выкидывать. Когда закончили, Ясюченя пошел греться к тумбам, в которых прогревали рулоны стали.
В цехе сновали французы, устанавливали свои станки. В ярко-синих комбинезонах с множеством карманов и карманчиков на молниях; в желтых замшевых перчатках; в белых, будто рекламных, касках; быстрые и сосредоточенные, они выглядели ненормально рядом с чумазыми, в драной спецовке, череповецкими работягами. Если у француза попросить закурить, он на секунду останавливает свою целеустремленность, радостно улыбается и протягивает сигареты, от одного вида которых кружится голова, и тут же забывает о тебе, ныряя в работу. Ясюченя только раз это делал и заклялся больше к ним подходить. Почему-то это было унизительным. Он вообще старался не попадаться им на глаза.
Проходя мимо загороженного сколоченными досками от опалубки входа в подвал, он услышал стук молотка. Перелез через ограду и стал спускаться вдоль шланга от компрессора. Нижние ступеньки оказались в воде, и Ясюченя пожалел, что не в резиновых сапогах. А утром в бытовке он еще удивился тому, что калининградцы одевают резину: это в такой-то мороз! Он осторожно боком присел на нижнюю незатопленную ступеньку. Отсюда видна была вся камера. Тюрин, согнувшись втрипогибели, наполовину влез в выдолбленную дыру и оттуда торчал только его зад, казавшийся массивным в ватных штанах.
В углу на куче мусора и бетонного щебня, с незатопленной и относительно сухой верхушкой, спал Иванов. Спокойно, будто не было грохота молотка, усиленного бетонными стенами десятикратно. Ясюченя позавидовал.
Он взял маленький камешек и кинул в зад Тюрину, но не попал. Пока подыскивал другой, Тюрин закончил дрожать и стал выбираться из дыры. Молоток он оставил шипеть в ней. Оглянулся и, увидев Ясюченю, подошел, осторожно ступая по воде. Она доходила почти до края сапог. Сел рядом.
– Там, наверху, Саидов приехал, – сказал Ясюченя. – Ходит.
– Хуй с ним.
Ясюченя протянул ему сигарету.
Тюрин посмотрел название.
– Гродненская «Прима». Ты что, посылку получил?
Ясюченя помотал головой.
– Из старых запасов.
Тюрин снял рукавицу и обтер лицо рукой.
– Бетон, сука, наверное, марки шестьсот. Да еще в сырости стоял… Заебал вконец. У вас там что наверху?
– Уже ничего. Подмели, теперь хуем груши околачиваем. А чего у вас воду не выкачивают?
Тюрин пожал плечами. Он курил, пуская дым через нос, и пусто смотрел в серую стену.
– Выпить хочется, – вдруг сказал он. – До жути.
– Я писал домой. Должны прислать, – сказал Ясюченя. И добавил:
– Скорей бы уж молодых пригнали в роту.
– Не пригонят.
– Откуда ты знаешь?
– Ребят, командиров из карантина сегодня видел. Им уже объявили.
– Ебаный в рот! – сказал Ясюченя.
– Такие вот дела…
Тюрин бросил окурок в воду. Он зашипел, дернулся в сторону и стал медленно кружиться на месте.
– Ладно, – сказал Тюрин, встал и пошел по воде к Иванову.
– Вы на обед-то собираетесь? – спросил Ясюченя, вставая. Когда вставал, в кобчике остро кольнуло. Но уже не так, как утром.
– А сколько времени? – остановился Тюрин.
– Около двенадцати. Я когда к вам шел, было без десяти.
– Ну, через полчаса смоемся. Слушай, я тебя все хочу спросить. А почему ты без бульбонского акцента разговариваешь?
– У меня мать русская. Да и жили мы раньше в Минске, а там никто по-белорусски не говорит. Учился в русской школе.
Он хотел сказать про институт, но не стал. Зачем? Лишние расспросы. Кому это здесь надо?
– Ясно, – сказал Тюрин и тронул Иванова за плечо. Тот поднялся, пошел к дыре и взял молоток. Он не сразу заработал, видимо, замерз конденсат, и Иванову пришлось несколько раз сильно ударить пикой в стену.
Тюрин устроился на куче и закрыл глаза.
Вокруг каждой тумбы была небольшая площадка с песком за железным бордюрчиком. На песок не сядешь – раскаленный, но на бордюр сесть можно было. Правда, он был острым, пережимал жилы, и ноги быстро затекали. Но можно было менять положение.
Тепло было сухим и пробирающим до костей даже через одежду. По телу пробегали приятные мурашки, и чувствовалось, как инфракрасные лучи выгоняют холод, накопившийся в теле с утра. Коварная штука. Хочется так сидеть всю жизнь, пронизанным жаркими сухими иглами. Закрыть глаза и сидеть, сидеть, сидеть… Уснуть. Не сможешь упасть. Тонкие, но крепкие лучи будут поддерживать тебя все время. Понемногу мурашки затихли, и осталась только истома, клонящая в вечный сон. Полудремотное состояние, спишь наяву. Очень приятно. Потом, когда прогреешься, как следует, выходишь на сорок градусов и не чувствуешь их. Кстати, о сорока градусах… Надо ведь на обед идти… Не хочется. Но надо. Можно понемногу думать о чем-нибудь. Тем более, что здесь не никогда не приходит в голову в голову всякое дерьмо. Никакой хуйни. Только приятное. Медленное, плавное, тихое, философское. Надо на обед идти.
Ясюченя встал и поплелся к выходу, стараясь не расплескать по дороге тепло.
Он взял полный суп, несколько кусков белого хлеба и котлеты с макаронами. На компот, талона в пятьдесят копеек уже не хватило. А чаю не было.
Когда он доедал суп, подошли со своими подносами калининградцы и сели за его стол. Потом Тюрин пошел к раздаче, взял три стакана сметаны и три куска пирога. Пирог, это он так только у них, у вологодских называется, на самом деле это просто лепешка, намазанная сметаной и запеченная. Тюрин спокойно прошел мимо кассирши к столу. Та проводила его взглядом, но так и не поняла, заплатил он за них, или нет?
– На, – Тюрин подвинул по столу к Ясючене сметану и пирог.
– Как ты умудряешься?
– А что, тут до хуя ума надо? Пошел, да взял с наглой рожей.
– Спасибо, – сказал Ясюченя.
Тюрин поднял голову от тарелки и посмотрел на него пустыми глазами.
Иванов криво усмехнулся:
– Жри, пока не отняли.
– Я написал, – сказал Ясюченя. – Мне должны прислать выпивку.
Иванов кивнул, разламывая котлету вилкой.
Тюрин снова поднял голову.
– Скажи тетке, чтобы посылку дома выпотрошила и принесла без ящика. Тогда Ахмедов не узнает, что там было? Сунешь ему в ебало колбасы, и все будет в порядке. А когда придет?
– Я не знаю. Должна вот-вот.
– И своим бульбашам не говори, – сказал Иванов. – Они что-то слишком начинают задницы чуркам лизать.
– Молодые пришли, – сказал Ясюченя.
Иванов и Тюрин обернулись.
– Жаль, что их не пришлют в роту, – сказал Ясюченя.
– Да, было бы полегче, – сказал Тюрин.
– Ни хуя. Пока не уйдут майские и Саидов, ни хуя не будет, – сказал Иванов.