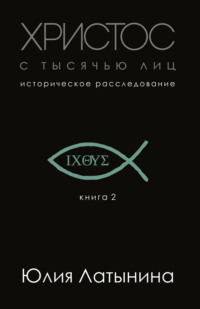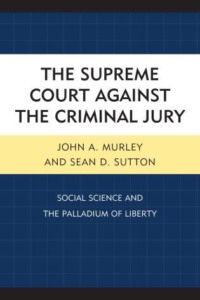Полная версия
Колдуны и министры
Но никто не завопил, и не прошло и двух минут, как государь вслед за Харрадой влез в какой-то темный склад. Вдоль стен были навалены тюки с казенными печатями, и у дальнего конца склада, от потолка до пола, качались две гигантские чаши весов. Государь надорвал один из тюков: там был шелк с рисунком из золотой и серебряной листвы.
У министра была своя фабричка, производившая шелка на шесть миллионов в год, а казенные печати стояли на тюках затем, чтобы провозить эти тюки беспошлинно. И хотя государь об этом не знал, он прекрасно понял, что в частный дом министра тюки с казенной печатью честным образом попасть не могут.
Харрада сказал, что добыча вполне успешная, и что он знает лавку, где ткань возьмут за полцены. Каждый из юношей взял по мешку и потащил к дыре. Государю было необыкновенно хорошо. Он представил себе, как он приносит этот мешок во дворец, и как первый министр растерянно кается перед мешком… «А Харрада… С Харрадой я буду ходить каждый день, и он мне будет показывать, кто из сановников меня обворовывает…»
Государь сбросил тюк на траву и прыгнул следом.
– Вот они, голубчики! – заорал сверху чей-то голос, – и в тот же миг на голову государя накинули мешок.
И кто хочет узнать, что случилось дальше, – пусть читает следующую главу.
Глава вторая,
в которой беглец из городской тюрьмы мстит изменникам императора
В это самое время господин Нан в синем кафтане без знаков различия шел по улице Синих Теней. Три часа назад ему сказали: «Государь уехал в Бирюзовую рощу. Государь не хочет вас видеть». «Ничего не понимаю», – подумал Нан, – «почему меня не арестовали? Государю сказали обо мне какую-то гадость, вероятно, подлинную, вероятно, господин Ишнайя». Впрочем, гадость – это лишь предлог. Истинная же причина была в том, что государь устал от опеки. Ибо Нан ни мгновенья не сомневался, что государь пошел в Нижний Город.
Движимый непонятным любопытством, Нан отправился в приемную господина Андарза, начальника Ведомства Справедливости и Спокойствия, своего непосредственного начальника, и просидел там часа два. Трое чиновников нечаянно толкнули его, а секретарь, к которому он подошел, так виртуозно надавил пером, что тушь брызнула Нану на ворот.
В эту самую минуту растворились двери, и из них появился, к величайшему изумлению Нана, господин Андарз, почтительно поддерживавший своего злейшего врага, господина Мнадеса, главного управителя дворца. Андарз увидел Нана, схватил его за забрызганный ворот и закричал, что Нан позорит богов сыскного ведомства, являясь в таком виде в приемную. Выпустил ворот и пропал. Из этого Нан заключил, что донос на него составляли не в канцелярии дурака Ишнайи, а в канцелярии умницы Андарза, и это было совсем плохо, потому что мало кому удавалось сорваться с крючка доносов, материал для которых собирали люди Андарза.
Нан понял, что Андарз дорылся до заговора господина Айцара. Он подумал: «Государю, наверно, сказали, что я взял сто золотых связок за то, чтобы замять дело о заговоре богача против империи, а Мнадесу, наверно, сказали, что я взял за такое дело двести золотых связок, а так как Мнадесу я отдал только четверть этих денег, Мнадес возмутился и отступился от меня».
Нан попытался разыскать Шаваша – но вместо Шаваша лежала записка, что он, мол, в префектуре. Нан пошел в префектуру, но Шаваша там не было. Нан подумал, что карьера его погибла, – а если искать сейчас государя с сыщиками, то погибнет, вероятно, не только карьера, но и самое Нан.
Господин Нан облачился в синий суконный кафтан, дошел до перекрестка с храмом Иршахчана, прошел по набережной и шагнул в харчевню с фонарем в форме виноградной кисти у входа и круглой лепешкой над воротами. Господин Нан не забыл взгляда, который кинул на него государь, когда Нан увел его от харчевни. Нан был очень обрадован этим взглядом.
Харчевню эту облюбовала компания молодого Харрады, сына первого министра. Нану очень хотелось, чтобы государь навестил харчевню и встретился с Харрадой, по собственному желанию и против воли Нана. Нан полагал, что сумеет сделать так, что встреча эта кончится очень скверно для Харрады и для его отца. Теперь Нан не был так в этом уверен.
В харчевне, в саду, трое ярыжек волокли из воды государя-мангусту. Нан посидел за столиком, поболтал со слугой. Он узнал, что мангусту сшиб молодой Расак, друг Харрады, и что была большая драка с двумя бродягами: у одного лопух липовый, другой вообще без лопуха. С двумя? И как это – липовый?
Нан недовольно покрутил головой. Стало быть, государь уже нашел себе в компанию какого-то бандита, да еще из тех, кто заступается за каменных болванов, потому что вряд ли это государь отстаивал честь небесного предка. Ничего себе, однако, сила – этого истукана и пятерым не поднять!
Нан вышел из харчевни и пошел к реке. Голова у него кружилась. Молодой Харрада и государь ушли в обнимку: хуже этого ничего не могло быть.
«Сегодня – подумал Нан, – кто-то где-то сорвет шапку с прохожего. Или повесит дохлого козла на воротах управы. Потом… Потом ночные пирушки. Пьяные драки. Первые убитые. Ограбленные лавки. Ярыжки, которые боятся ночью арестовывать грабителей и убийц, из опасения, что один из них – государь. Радостные сплетни в народе – как приятно, что справедливый государь и справедливый вор – одно и то же лицо!»
Ознакомиться с жизнью народа!
Половина Харун-аль-Рашидов империи кончала самой гнусной и безнаказанной уголовщиной.
Господин Нан дошел до берега канала и стал глядеть на далекий остров в полумиле от берега, остров, где, как он знал совершенно точно, юноши превращались в свиней. Золотистая, как дыня, луна уже зрела на небе, далекие звезды раскачивались над верхушками деревьев. Вдалеке, на набережной, выбирал из лодки рваные сети запоздавший рыбак. Нан подошел к рыбаку и дал ему «розовую», чтобы тот перевез его к острову.
Рыбака, нанятого Наном, звали Абана Шипастый, и был Абана Шипастый одним из лучших карманников при шайке Свиного Глазка. И предавшийся мрачным размышлениям Нан, выйдя из лодки, даже не заметил, что его кошелек и его кривой нож с талисманом вида «рогатый дракон», с тремя кисточками и серебряным крючком для ловли демонов, – переменил владельца.
* * *Шаваш вернулся в управу в третью дневную стражу. Красота! Гранитные пеликаны на створках ворот стояли так высоко, что, казалось, заглядывали в небеса, двор за воротами был усыпан опавшими лепестками вишен, солнце плавилось на золоченых шпилях. Во дворе толклись просители и доносчики. Один толстяк жарко шептал соседу:
– Сам видел – прорицатель эту, видишь ли, «жену» взял и эдак легонько тряхнул, и тут же кожа с нее сползла, как промасленная бумага, а из-под кожи – лезет, извивается – и в кувшин! Нынче, друг мой, оборотней очень много. В спокойные времена нечисти нет, есть одни боги. А сейчас пройди по рынку, так почитай, каждый третий будет с барсучьим хвостом…
Шаваш углядел среди маленьких просителей человека с корзинкой замечательных персиков. Это его немного насмешило, – он понял, что человек больше ничего не принес. Шаваш очень любил персики, – он почему-то принял человека, обещал поспособствовать, проводил до порога и заперся в кабинете. Голова, болевшая с утра, немного прошла. Шаваш ел персик, глядел в полуденный сад и думал о разнообразных взаимоотношениях оборотней и населения вообще и о желтых монахах в частности.
Спросить у Нана? Нет. Не стоит. Шаваш задумался, как вел себя Нан в Харайне, и решил, что Нан вел себя так, будто его кто-то шантажировал.
Потом Шаваш поднял глаза и едва не подавился персиком: по саду, ко внутренним дверям управы, шел желтый монах. Шаваш узнал одного из харайнских монахов, по имени отец Сетакет.
Через десять минут Шаваш принимал вместо отсутствующего Нана желтого монаха.
Шаваш громко удивлялся событию чрезвычайно редкому, хотя и незапрещенному – действительно, желтый монах пришел в управу! Надо сказать, что изумление Шаваша было мнимым. Он отлично знал, что вчера столичные желтые монахи вернулись из Харайна пешком в свой монастырь (иначе, чем пешком, они не ходили), что их сопровождал этот харайнский монах, что в миру, судя по документам, монаха звали Хибинна, и был он родом из провинции Чахар, из деревеньки Саманнички.
По непредвиденной случайности Шаваш, бывшая столичная шельма, обладая изрядными знакомствами в мире скорее преступном, нежели добродетельном, помнил некоего Хибинну Чахарца, по прозванию Шиш Масляный. Шиша зарезали в пьяной драке, а документы его – очень хорошие документы – его любовница пустила на рынок.
Монах сказал, что хочет дождаться господина Нана, Шаваш прижал руки к груди и сказал, что Нан во дворце и что он, Шаваш, будет рад его заменить. Монах задергался, засмущался, а потом вдруг сказал, что хотел бы вернуться в мир, что он получил на это благословение отца-настоятеля и теперь хочет получить еще и документы.
– По-моему, – нерешительно наклонил голову Шаваш, – прецедентов нет. Я не слыхал, чтобы желтым монахам позволено было возвращаться в мир.
– Я не слыхал, чтобы это было запрещено, – возразил отец Сетакет.
«Странная логика», – отметил Шаваш. Или это ловушка, или… В голове его мгновенно сложился план. «Я его отпущу. Он станет мирянином. Как только он станет мирянином, станет возможно его арестовать. Я выдам ему документ, а потом подложу девицу или подсуну ворованное. После этого я возьму его и сделаю с ним все, что полагаю должным. Подозрения мои, вероятно, чистый вздор… Что за время – ни за так пропадет человек».
Они немного поговорили. Шаваш стал заполнять бумаги, потом извинился и вышел. Отец Сетакет подоткнул полы желтого балахона, расположился на кресле поудобнее и стал ждать.
Человека, пришедшего к Шавашу, на самом деле звали Свен Бьернссон. Уроженец одной из первых земных колоний на планете Кассина, выпускник Третьего Технологического на Гере, нашумевший своими работами на стыке топологии и физики, («поверхности Бьернссона» существенно прояснили топологический механизм гиперпространственного перехода), – Бьернссон в свое время одним из первых ознакомился с результатами экспедиции Ванвейлена в этот отсталый мир в дальнем уголке галактики и поднял крик о необходимости исследования и изучения таинственного объекта, который невежественные туземцы почитают под именем Желтого Ира.
Миром за стенами монастыря Бьернссон до недавних пор не интересовался соверешенно. Да вот хотя бы – есть все-таки в этой безумной стране частная собственность или нет – даже и на такой фундаментальный вопрос Бьернссон не мог ответить. Хотел вот спросить Стрейтона…
Интересуясь только Желтым Иром, Бьернссон не очень разобрался в том, что делал Нан в провинции, едва заметил разгром варваров, смерть аравана и смерть наместника. Он усвоил только одно: что его коллега, Лоуренс, устрашившись исследований, отдававших чертовщиной, мистикой и девятым – от опыта – доказательством бытия Божия, сделал следующее: взял кота, – ах, как хорошо Бьернссон теперь помнил этого проклятого, серого с проседью кота, пустил кота в алтарь, где покоилась, в виде шара, божественная субстанция. После этого, по непроверенным сведениям, божественная субстанция для удобства кота приняла облик мыши, и кот ее сожрал. Засим Лоуренс запихал кота в мешок и полетел в далекий остров в северном океане, а по дороге утопил кота в кратере морского вулкана.
Бьернссон знал, что скоро их, ученых, воротят домой, монастырь пропадет; попросился у отца-настоятеля, старенького уроженца провинция Инисса, идти вместе в столицу, а в столице попросился в мир.
Бьернссон ждал полчаса. Шаваш вернулся, улыбаясь, протянул Бьернсону бумаги:
– Тут, увы, еще некоторые формальности. Мне нужно несколько часов. Я почту за честь навестить вечером монастырь и отдать вам документы.
Маленький чиновник стоял вполоборота к окну: в золотистых его глазах отражались облака и далекие шпили управ. Бьернссону вдруг стало ужасно неловко. Он понял, что, в сущности, обманывает этого славного мальчика. А вся Федерация – обманывает вейцев. Посмотрим, приглядимся, а там уж и поможем… Четверть века уже смотрят: четверть века с тех пор, как Ванвейлен грохнулся об эту планету и так глупо, так непростительно себя повел!
Чушь! Просто где-то в городе, полагающем себя настоящим Небесным Городом, бизнесмены и политики смертельно испугались тех непредсказуемых изменений, которые внесет в хрупкое международное равновесие, и так подтачиваемое диктаторами и хапугами всех мастей, этот мир, с его невостребованными залежами, с его трудолюбием.
Бьернсон вспомнил один из сценариев, темпераментно изложенный ему месяц назад.
Мы вмешиваемся. Чиновники начинают распродавать империю оптом и в розницу, благо покупателей хватает. Тайные общества подымают визг. Сектанты, вымазав волосы глиной, дабы быть невидимыми, начинают резать небесных корыстолюбцев. Чужаки продолжают свою просветительскую деятельность под прикрытием орбитальных фортов и веерных излучателей, наивно полагая, что веерный излучатель – это посильнее магии сектантов. Добродетельные чиновники и правительство, радуясь, что наконец-то найден идеальный козел отпущения, заключают с сектантами братский союз. Небесных грабителей, насаждающих корыстолюбие и зависть, вышибают с планеты; построенные ими заводы экспроприируют; еще полвека – и в космос летят корабли очередного Иршахчана (проставить порядковый номер), отменившего «твое» и «мое» в пределах планеты и горячо желающего отменить «твое» и «мое» в пределах галактики.
«Четверть века отговорок – подумал Бьернссон, – и с каждым годом наша вина все тяжелее. Жертвы эпидемий, наводнений…»
Бьернссон очнулся. Шаваш, улыбаясь, протягивал ему бумаги.
– Жить вам будет негде. Если вы сочтете возможным перебеливать некоторые справки, я бы постарался предоставить вам комнату при управе…
– Послушайте, Шаваш, – хрипло сказал Бьернссон. – Я…
Физик остановился. Молодой чиновник, с длинными завитыми волосами, в желтом бархатном кафтане, шитом узлами и листьями, предупредительно глядел на него.
– Вы, – вежливо повторил Шаваш.
«Бог мой, ну что я ему скажу, этому мальчику, – подумал физик. Он меня за сумасшедшего примет. Бывали уже такие случаи».
– Я вам очень благодарен, – сказал Бьернссон.
* * *Свен Бьернссон вышел из кабинета Шаваша и зашагал по увитой зеленью галерее, щурясь и вспоминая лицо Шаваша. «Какой славный мальчик, – думал он. – Притом, слухи о здешней бюрократиии сильно преувеличены. Как легко он согласился. Хорошо, что я не застал Стрейтона, – Стрейтон, вероятно, упрямился бы дольше».
Через два часа Бьернссон предстал перед настоятелем, старым вейцем, и сообщил, что гражданские власти не стали чинить ему никаких препятствий.
– Очень хорошо, сын мой, – сказал настоятель, и посмотрел куда-то в сторону. Бьернссон тоже скосил глаза в сторону и вдруг увидел, что настоятель смотрит на седого с проседью кота, того самого кота, которому Лоуренс скормил божественную субстанцию.
– Мяу, – ласково сказал кот и пошел навстречу Бьернссону.
Все вейские слова вылетели из головы физика.
– Во имя отца и сына, – с ужасом сказал он, поднял руку и перекрестил кота. Немыслимое животное не сгинуло, а Бьернссон упал на пол и потерял сознание. Настоятель, старый монах, взял кота на руки и долго глядел на упавшего человека. Глаза его из серых почему-то стали цвета расплавленного золота.
– Отец Нишен, – произнес наконец настоятель, обращаясь к другому монаху-вейцу, – когда придет этот чиновник, Шаваш, известите его, пожалуйста, что в документах больше нет надобности.
* * *Когда с государя сняли мешок, он обнаружил, что лежит посереди мощеного двора: над ним, пританцовывая, хохотал Харрада, и высоко вверху, на галерее второго этажа, в руках его слуг и товарищей пылали факелы, и свет их, мешаясь со светом луны, плясал на красных лаковых столбах и оскалившихся драконьими мордами балках.
– Ну, мерзавцы, – пнул Харрада государя, – теперь говорите, кто вы такие и чего залезли в мой дом.
– Позови стражу! – закричал Варназд.
Харрада расхохотался.
– Зачем? У тебя лопуха нет, у того – поддельный. Кто вас хватится – коза в родном огороде?
Новый знакомец государя, притороченный к бронзовой решетке, молча и злобно дергался, пытаясь высвободить руки. Харрада повернулся к нему и высунул от удовольствия розовый язык.
– Как тебя зовут по-настоящему? – спросил он.
– Это все, – за то, что я оскорбил твоего дружка?
– Не дружка, а подружку, – хихикнул Харрада.
Новый знакомый сплюнул от отвращения.
Харрада вздыбился и заорал, чтобы ему подали плетку. Расак испугался. Он знал, что Харрада уже не раз убивал вот так людей, и боялся, что, если убивать людей, это когда-нибудь кончится плохо. Расак подошел к Харраде, пошарил по нему руками и запрокинул голову:
– Рада, – сказал он, – пойдем. Эти двое подождут.
Глаза Харрады стали млеть; он и Расак ушли, а обоих юношей отволокли в какой-то сарай и привязали к прокопченным столбам.
* * *В сарае было темно и страшно. Слезы душили государя. Воображению его доселе рисовалось – он называет себя, все падают на колени. Государь был умным юношей, и понимал, что Харрада сочтет его сумасшедшим, но на всякий случай тут же прикончит. «Весь мой народ, – подумал государь, – состоит либо из обиженных, который никто не защищает, либо из обидчиков, которым никто не препятствует».
– Как ты мог, – с упреком сказал государь новому знакомому, – решиться на грабеж?
Тот молча пыхтел, пытаясь выдернуть столб. С крыши летели соломенные хлопья. Прошел час. Юноша выдохся и затих.
– Как ты думаешь, – сказал Варназд, – он нас отпустит?
– Отпустит, – сказал белокурый юноша, назвавшийся Дохом, – поплюет в рожу и отпустит на тот свет.
– Как тебя все-таки зовут и что ты натворил?
Юноша помолчал в темноте и потом сказал:
– Меня зовут Кешьярта, а мать называет меня Киссур. Я родом из Горного Варнарайна. Это самый конец ойкумены, если не считать западных островов за морем, оставленных по приказу государя Аттаха.
– Про острова – это сказка, – перебил вдруг государь.
– Это не совсем сказка, – возразил Киссур, – потому что двадцать пять лет назад в Варнарайн, который был тогда не провинцией, а самостоятельным королевством, приплыл корабль из Западных Земель. Многие считали, что это предвещает несчастье, и, действительно, через полгода наш король признал себя вассалом империи; кончилось имя Киссур и началось имя Кешьярта. Один человек с корабля, его звали довольно странно – Клайд Ванвейлен – этому сильно помог.
Киссур замолчал. Государь вдруг заметил за ним, в темноте, несколько любопытных крысиных глаз. Государь сообразил, что перед ним один из тех, кого его мать называла «знатными варнарайнскими волчатами».
– Государыня Касия, – продолжал Киссур, – проявила милосердие и не рубила голов тем, кто на это не набивался. Детей знати забирали в столицу. Я с двенадцати лет учился в лицее Белого Бужвы. Я всегда желал увидеть Западные Земли, подал доклад, даже чертежи кораблей разыскал – не разрешили. Тогда я отпросился на родину, взял людей и лодку и поплыл. Через месяц, действительно, приплыли в Западную Ламассу. Город пуст, разрушен, одни дикари орут на птичьем языке.
Откуда взялся этот корабль четверть века назад?
Когда я вернулся в столицу, меня арестовали, сказали, что я нарушил запрет на плавания. А потом пришел человек от первого министра и объяснил: «Все знают, что Западная Ламасса ломится от кладов, потому что когда жители уезжали, они не знали, что не вернутся, зато знали, что на том берегу золото конфискуют. А ты золота привез очень мало, стало быть, украл. Поделишься – выпустим, нет – напишем, что готовил золото для восстания». А его нету в Ламассе, золота. По-моему, дикари разорили клады. Мы убили немножко дикарей: а золота все равно нет. Меня приговорили к клеймению и каменоломням. Я, однако, бежал.
Варназд, в темноте, покраснел до кончиков ушей.
– Погоди, – сказал он, – к клеймению! Но ведь на таком указе должна стоять подпись императора!
– При чем здесь император? – возразил Киссур, – это министр виноват.
– Погоди, – заупрямился государь Варназд, – если государь подписал указ, не читая – значит, он бездельник, а если прочел и послал на каторгу человека, который первым за триста лет поплыл за море – так он негодяй.
Киссур молчал.
– Скажи мне, Кешьярта, честно, – продолжал государь, – что ты думаешь о государе?
Киссур молчал.
– Неужели ты им доволен?
– Друг мой, – проговорил Киссур. – Вот если бы нас тут было не двое, а трое, и один бы ушел, а мы бы принялись судачить о нем и поносить его в его отсутствие, как бы это называлось?
– Это бы называлось сплетней.
– Так вот, друг мой. Мне, может быть, и есть что сказать императору. Только говорить такие вещи за глаза – это много хуже, чем злословить. Потому что через слово, сказанное в лицо государю, можно и головы лишиться, и мир изменить; а если сплетничать о государе за глаза, то от этого ничего, кроме дурного, для страны не бывает.
Тут белокурый Киссур поднатужился и вытянул столб из половицы, как морковку из земли. Сарай крякнул. Киссур соскоблил с себя веревки, словно гнилые тыквенные плети, и вынул из сапога длинный кинжал. У кинжала была голова птицы кобчик и четыре яшмовых глаза. Посереди двуострого лезвия шел желобок для стока крови. Киссур разрезал на товарище веревки и сказал:
– Вот этим кинжалом шпионы империи убили моего отца в тот самый день, когда последний король Варанарайна признал себя вассалом империи.
Юноши прокопали в крыше дыру, вылезли, перемахнули через стену усадьбы и побежали через развалины монастыря к берегу. И тут, у поворота дорожки, у старого тополя со страшными язвами рака на серебристой коре, Варназд вдруг увидел человека. Тот был выше государя Варназда и выше государя Иршахчана. На нем был зеленый шелковый паллий монаха-шакуника, и плащ цвета облаков и туманов, затканный золотыми звездами. Глаза у него были как два золотых котла.
– Щенок Касии, – сказал человек, – это тебе за меня и за моих убитых друзей.
Человек взмахнул плащом, плащ взлетел выше тополей и облаков, золотые звезды посыпались тополиным пухом. Государь вскрикнул и схватился за горло: астма!
* * *Очнувшись, государь обнаружил, что лежит под позолоченной чашей, украшенной мерцающими плодами и славословиями государю, и вода из этой чаши течет ему за шиворот, а оттуда – в канавку. Четверо парней растянули на земле Киссура, словно шкуру для просушки. Лицо Киссура было залито кровью, и губы у него были словно у освежеванного хорька. Куда-то в кусты за ноги волокли мертвого слугу.
– Что же ты не бросил этого припадочного, – спросил Харрада, склоняясь над Киссуром, – ты бы успел бежать!
Киссур не отвечал. Харрада схватил у слуги лук, намотал белокурые волосы Киссура на конец лука и стал тыкать его лицом в сточную канаву.
– Собака, – закричал Киссур, выплевывая вонючий песок, – когда-нибудь государь узнает всю правду и покарает продажных тварей!
Вокруг засмеялись. А Харрада присел на корточки, словно от ужаса, и вдруг заорал, выкатив глазки:
– Ба! – я сам буду государем! Разве мало первых министров садилось на трон? Отец говорил мне: из этого Варназда такой же государь, как из мухи – жаркое! Он даже не читает до конца указов, которые подписывает!
Харрада был, конечно, сильно пьян: как можно говорить такое даже в шутку?
– Позови стражу! – закричал государь.
– Ба! – сказал Харрада. – Вы слышали: этот вор залез в мой дом, а когда его поймали, стал говорить, будто первый министр непочтителен к государю.
Государь в ужасе закрыл глаза. Все вокруг: и ночной сад, и пьяный хохот, и эта ваза, украшенная его личными вензелями, и холодная земля и вода, казались ему жутким сном. Вот сейчас господин Нан разбудит его и все уладит, стоит только открыть глаза.
Государь открыл глаза. На краю лужайки стоял Нан, одетый отчего-то в полосатую куртку слуги первого министра. Нан совершил восьмичленный поклон и сказал:
– Господин Харрада! Ваш отец узнал, что сегодня ночью вы познакомились с двумя молодыми людьми. Полагаю, это они? У того, в зеленом кафтане, на подкладке должна быть метка: желто-серый трилистник.
Кто-то задрал государю полу: метка, действительно, была.
– Ваш отец требует этих людей к себе.
Харрада глядел, набычась. Он был пьян и не помнил этого человека среди доверенных лиц отца.
– А зачем они отцу?
– Не знаю, господин, – ответил Нан, – думаю, ни за чем хорошим.
Начался спор: отпускать негодяев или не отпускать? Расак, юноша рассудительный, тихонько говорил Харраде о гневе отца. Пленников отвели в беседку. Время шло.
Руки Нана были холодны от пота. Доселе им не встретилось ни одного знакомого. И, самое нехорошее, – переодеваясь полчаса назад в кафтан кстати подвернувшегося слуги, Нан заметил, что то ли обронил свой рогатый нож с лазером, то ли утопил.