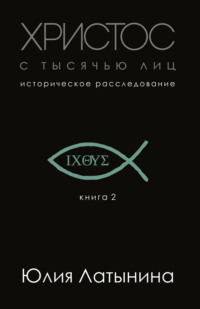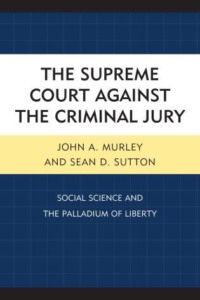Полная версия
Инсайдер

Юлия Латынина
Инсайдер
Часть первая
Чиновник
Глава первая,
в которой Киссур Белый Кречет попадает в аварию, а министр финансов рассуждает о причинах прорухи в государственной казне
Стены гостиной были затянуты голубым шелком, а углы аккуратно заложены шестигранными изразцами, что превращало комнату в благоприятствующий жизненному успеху восьмиугольник и сглаживало все углы в судьбе ее владельца. На шелке были вышиты картины – цветущие лотосы с листьями, опущенными от жары, распускающиеся сливы, белоснежная утка в заводи и весеннее солнце. Светильник, похожий на прозрачный перевернутый гриб, свисал почти до самого пола, и по ободу его шли золотые медальоны с изображениями различных зверей.
Возле светильника стоял маленький столик с запотевшим кувшином и рядом – кресло. В кресле сидел человек лет тридцати с небольшим, в шелковых штанах и куртке, перехваченной поясом из крупных серебряных блях. У него было очень красивое, но жестокое лицо со светло-карими, навыкате, глазами и взлетающими вверх уголками бровей, и перстни тонкой старинной работы странно выглядели на его хищных пальцах с нестрижеными ногтями. Белокурые волосы его были скручены в пучок и заткнуты черепаховым гребнем. В левом углу на толстой золотой ножке стоял трехмерный трансвизор.
Человек время от времени переливал содержимое кувшина в пятигранную чашечку, закрывал чашечку лакированной крышкой с продетой сквозь крышку соломинкой и вставлял соломинку в рот. И глядел в трансвизор.
По левую руку от человека, в рамке из собольего меха, висел небольшой рисунок с изображением больного воробья в снегу – очень красивый рисунок. Под рисунком стояла подпись самого императора. Это был личный подарок императора хозяину кабинета. Тут же висели два золотых кольца для цветов, увитых орхидеями и клематисом. Поверх трансвизора торчало заячье ухо спутниковой антенны, и за антенной стоял посеребренный горшок, где цвело бледно-розовыми цветами растение с изысканным названием «нахмуренные бровки красавицы».
Картинка в трансвизоре решительно отличалась от изображений на шелковых свитках, украшающих комнату. Трансвизор не рисовал ни больных воробьев, ни цветущих слив. По трансвизору шла пресс-конференция. Говорил важный, породистый иномирец с поросячьими глазами, привычно щурящимися от фотовспышек. Перед иномирцем топорщился целый табунок микрофонов. Иномирец добросовестно пытался заглянуть в комнату через экран и, вероятно, чувствовал себя чужим в окружении цветущих слив и золотых колец для цветов.
Человека на экране что-то тоненько спросили, и он благосклонно ответил:
– Ни в коей мере не вмешиваясь в дела суверенного народа и не оказывая никакого давления на правительство, Федерация Девятнадцати приветствовала бы решение императора о проведении первых в истории вашей страны парламентских выборов как свидетельство еще одного шага вашего народа на пути интеграции в галактическое сообщество.
Человек, сидящий в кресле, вылил в чашку остатки из серебряного кувшина. Затем он несильно размахнулся и влепил кувшином прямо в лоб улыбающемуся господину на экране. То т перестал улыбаться и потух. Экран крякнул и разлетелся на мелкие кусочки. «Нахмуренные бровки» с шумом обрушились вниз, и в комнате отвратительно завоняло жженой пластмассовой требухой. Расписные двери раздвинулись, и в комнату вкатился пожилой дворецкий в голубом кафтанчике.
– Убери это, – сказал, не повышая голоса, человек в кресле.
Дворецкий всплеснул руками и сказал:
– Ах, господин Киссур, ведь это уже третий за неделю!
Киссур выскочил из кресла, хлопнул дверью – и был таков.
В комнате дворецкий сунул руку в пустой кувшин, поскребся, облизал… Господин даже не был пьян, ну, почти что не пьян, – в кувшине было слабенькое пальмовое вино, щедро разведенное абрикосовым отваром. Киссур мог напиться, напиться выше глаз, до страшной драки и разрубленных тушек собак, а то и людей – но только на веселой пирушке с дюжиной приятелей. Один Киссур не пил никогда.
Киссур меж тем сбежал вниз по лестнице и выскочил во внутренний двор. Была уже ночь. Пахло мятой из загородных садов, бензином и лошадьми. Вокруг дворика с трех сторон поднималась городская усадьба с плоской крышей и острой, изящной, как лист осоки, башенкой при левом крыле, изукрашенной резьбой в виде виноградных листьев. Раньше такие башенки строили высокопоставленные вельможи, дабы те трогали пальчиками небо и служили лестницей, по которой к их владельцу нисходила удача. Про такие башенки раньше говорили, что выше их – только шпили государева дворца и звезды. Теперь этого сказать было никак нельзя, потому что чуть подальше на черном небе вырисовывался строительный кран, собранный из стальных спичек, – и, стало быть, небо пальчиком трогал именно он. Киссур в бешенстве пнул кулаком вверх и полетел, топоча, по дорожке, освещенной лунами и фонарями.
На заднем дворе, перед воротами, увитыми бронзовым виноградом, стоял слуга в синей курточке и любовно мыл длинный глянцевитый автомобиль, словно заплетал лошади хвост. Черные бока машины блестели в лунном свете, и сбоку сверкали серебряные жабры воздухозаборников для водородного двигателя.
Киссур вышиб шланг из руки раба и прыгнул за руль. Колеса взвизгнули, – раб едва успел отскочить. Стражник в будочке у ворот в ужасе ударил по кнопке на пульте, ворота задрались вверх, и машина вылетела на пустынное и мокрое ночное шоссе. «Когда-нибудь он не успеет поднять ворота, – подумал Киссур, – и я сломаю себе шею о свою собственную стену».
Машина, урча, жрала водород – удивительное дело, лошадь ест тогда, когда отдыхает, а эта черная железяка ест тогда, когда едет, а когда отдыхает, она ничего не ест. Да! Семь лет назад, когда тоска, бывало, съедала душу, Киссур брал черного, с широкой спиной и высокими ногами коня и скакал до рассвета в императорском саду, в балках, заросших травами и кустами, – где теперь императорский сад? Загнали, продали, как девку на рынке, под какую-то стеклянную дылду, стыдно говорить, – ведь то самое место, где стоял кран из стальных спичек, не кто иной, как сам Киссур продал какой-то ихней корпорации…
Шоссе внезапно кончилось у вздувшейся речки: Киссур едва не кувыркнулся в воду с обрывка понтонного моста. А все-таки эта штука скачет быстрее коня, хотя и воняет железом. Раньше железом пахло только оружие, а теперь у каждого чиновника в доме стоит этот бочонок и воняет железом, и страшно подумать, сколько родины чиновник продал за этот бочонок…
Киссур развернулся и медленно поехал обратно. Шагов через сто от шоссе уходила налево залитая бетоном дорога. В лужице, собравшейся у поворота, плавали ошметки луны. «Что за дорога?» – заинтересовался Киссур и свернул.
Через десять минут дорога кончилась. Свет фар выхватил из темноты высокий бетонный забор с козырьком из колючей проволоки и сторожа, одиноко маявшегося на вышке. Слева темнело неогороженное поле, и по этому полю бил желтый луч прожектора. Киссур вышел из машины и пошел по полю, к экскаватору, возвышающемуся, как заводной крот, над недоеденным холмом. Поле все было продавлено траками и колесами, в глиняных колеях блестела вода. Экскаватор был огромный, выше тополя – одна из тех чудовищных машин с гусеницами в пол человеческого роста, которые заглатывают глину и привезенные издалека добавки, тут же все переваривают и извергают из нутра уже готовые строительные блоки.
Киссур вскарабкался по крутой лесенке на экскаватор. Карабкаться было долго, лесенки изламывались, шли горизонтально, превращались в узкие проходы между стальными кожухами механизмов и наконец закончились у крошечной кабины. Кабина была заперта, сквозь стекло на Киссура глядели россыпи синих огоньков на дремлющих пультах.
В этот миг луна опять высунулась из облаков, – далеко внизу мелькнула Пьяная Река, и над ней – цветная башенка моста Семи Облаков. Киссур вдруг узнал это поле, – здесь, у Семи Облаков, восемь лет назад он догнал мятежника Ханалая, когда тот уже собирался войти в столицу, – догнал, и с пятьюстами всадниками утопил в реке тысячи четыре бунтовщиков… У предводителя отряда на шее было гранатовое ожерелье: Киссур очень хорошо помнил, как одной рукой срубил ему голову, а другой сунул за пазуху ожерелье.
Киссур повернулся и стал спускаться вниз по скользкой, пахнущей мазутом и химией лесенке. Его машина тихо урчала и жаловалась из-за незакрытой дверцы. Охранник в своем гнезде нерешительно топтался: что такое? Начальство ли приехало ночью на таком шикарном бочонке поглядеть на стройку? А на грабителя непохоже… И взять хоть тот же экскаватор, это ж с ума сойти, какая машина дорогая: ростом в три этажа, что твой кипарис, сама ходит, сама в землю тычется, сама за собой плиты складывает… Говорят, стоит такая машина втрое больше, чем вся деревня, в которой охранник родился и вырос, и даже дороже императорского жезла, разукрашенного каменьями и золотом. Ну, это уж брешут, наверное, императорский жезл – средоточие мира и опора власти, стукнет император своим жезлом, и от стука этого цветы расцветают, а птицы начинают вить гнезда, – как его можно с какой-то железякой равнять? Нельзя его с железякой равнять, вот и злятся люди с неба, хихикают над жезлом: мол, враки все это, и весна не оттого наступает, что император жезлом об пол в Зале Ста Полей бьет, а оттого, что планета Вея как-то по-другому свой бок к солнцу поворачивает. А может, и не брешут люди с неба. Может, и вправду их экскаватор против императорского жезла посильней будет…
– Эй, – сказал Киссур, – что тут строят?
– Не могу знать-с, – ответил испуганно охранник. – Говорят: мусорный завод.
– Кто строит?
Охранник озадаченно молчал.
– Я, господин, знал, только имя такое трудное…
– Иномирцы?
– Они.
Прожектор с вышки бил Киссуру в глаза, бесстыдно затмевая луну. Киссур покачался на каблуках, кинул сторожу монетку, сел в автомобиль и уехал.
Ему было совершенно все равно, куда ехать, но колеса сами вывезли его к Яшмовым Холмам, самому дорогому пригороду столицы. За тротуарами, выложенными синим сукном, потянулись расписные стены, за стенами замелькали деревья и репчатые башенки флигелей, на перекрестках замигали светофоры, освещая призрачным светом статуи богов и дорожные знаки.
Киссур проехал по улице с односторонним движением в сторону, обратную дозволенной, свернул на запретный знак и, не находя нужным снижать скорость, помчался через ночные перекрестки. Два раза он благополучно проехал на красный свет, а на третий раз ему не повезло: из-за беленого забора вывернулся серый и невероятно длинный, похожий на ласку автомобиль. Представительский «Дакири», последняя модель, производство республики Гера.
Киссур крутанул руль до отказа еще раньше, чем тугодумные биоэлектронные потроха автомобиля учуяли опасность. Тормоза обеих машин нехорошо запели в ночи. Серый «Дакири» нырнул влево. Все бы обошлось, если б не мокрый асфальт: серый завертелся волчком и носом влетел Киссуру в правый бок.
Раздался отчаянный скрежет металла, словно под старым клинком рассыпались завитки кольчуги.
Потом все стихло.
Владелец «Дакири» выскочил из машины, бросился к другому автомобилю, дернул дверцу и сунул голову внутрь. Это был высокий, чуть ниже самого Киссура, и молодой еще мужчина. У него были темные волосы и темные взбешенные глаза, и он был одет в безупречно выглаженный костюм с белой рубашечкой и плоской удавкой галстука, как и полагается человеку, сидящему за рулем машины, сопоставимой по цене с подержанным «шаттлом».
Вероятно, водитель ожидал найти в машине труп или раненого: лицо его изумленно вытянулось, когда он обнаружил, что виновник аварии сидит и вытаскивает из кармана бумажник. Тут Киссур взглянул в зеркальце заднего вида, сдвинувшееся от удара, и заметил, что волосы его, закрученные в пучок, растрепались и гребень выскочил из пучка, как кнопка из предохранителя. Киссур вынул гребень и стал расчесывать волосы.
Лицо темноволосого исказилось, словно в трансвизоре со сбитой настройкой: он поволок Киссура наружу и нехорошо зашипел на языке людей со звезд:
– Ах ты вейская обезьяна! Сначала слезь с дерева, а потом садись за руль!
Улыбка медленно сползла с лица Киссура. Он оставил в покое гребень, перехватил обеими руками запястья иномирца, тянувшего его из машины, вылез сам и, несильно размахнувшись, поддал иномирцу коленом в солнечное сплетение. То т обмяк и сказал «ой». Громко захрустела красная черепица, прикрывавшая канавку на обочине, и иномирец, задрав ноги, провалился сквозь черепицу вниз. Киссур усмехнулся, оправил рубашку и взялся за дверцу машины.
В следующую секунду что-то мелькнуло над его головой и отразилось в длинном оксидтитановом ребре автомобиля. Киссур мгновенно обернулся: Великий Вей! Чужак выдрался из черепичной канавки и летел на Киссура, приплясывая как гусь. Киссур, ошарашенный, успел уклониться от первого удара, но второй едва не своротил ему челюсть. Киссура шваркнуло в угол между зеркальцем заднего вида и дверцей. Зеркальце хрустнуло, и Киссур заметил правую ногу иномирца в двух пальцах от своего уха. За эту ногу Киссур уцепился и повернул: но вместо того, чтобы улететь лицом в асфальт, умелый чужак молодецки завопил, как-то чудно перекинулся в воздухе и въехал свободной ногой Киссуру в брюхо. Киссур даже потерял на мгновение сознание, а открыв глаза, обнаружил, что уже валяется на дороге, как стручок от съеденного боба, а иномирец опять собирается бить его ногой. Киссур перекатился на бок: иномирец промазал, а Киссур, напротив, очень ловко выбросил ногу и попал иномирцу прямо в то место, где у чужака рос его кукурузный початок: тот завопил уже не так весело. Киссур подпрыгнул спиной, вскочил на ноги и ударил противника по морде, раз и другой: тот обмяк. Киссур пихнул его, для надежности, пяткой в пах, приподнял и шваркнул о ветровое стекло серенького «дакири». Слоеное стекло затрещало и пошло ломаться, иномирец свесил голову и потерял сознание.
Киссур стоял, тяжело дыша, моргая полубезумными глазами. Во время драки Киссур был приучен терять над собой всякий контроль: предки его в такие минуты превращались в волков и медведей, и, будь у Киссура за спиной меч, он непременно бы зарубил негодяя. Но меч теперь носить было бы глупо, а этих, – с пулями, со светом, с газом, – словом, с дыркой посередине, как у бабы, Киссур не жаловал. И хотя в багажнике машины у Киссура лежал веерный трехкилограммовый лазер и еще какая-то шибко модная штучка, Киссур и сам не знал, зачем их возил. Так, все его друзья возили, и он возил.
Киссур стоял, бессмысленно мотая головой и понемногу возвращаясь в мир. Иномирец лежал на капоте собственного автомобиля, как раздавленная лягушка, белая его рубашка и темная прядь волос были безнадежно перепачканы клюквенным соком. Светофор над перекрестком мигнул и переменил свет: фигурка бога-хранителя перекрестков засверкала зеленым. Киссур окончательно пришел в себя. Он пошевелил губами и вытащил из кармана бумажник. Киссур не уважал чиповых карточек. Он выгреб из бумажника все, что там было, – тысяч двадцать, а может, пятьдесят, – по его смутным воспоминаниям, – свернул деньги трубочкой и сунул их чужаку в разбитые зубы. Ему не хотелось, чтобы про него говорили, что он бьет людей даром.
Потом сел в машину – и уехал.
* * *Машина медленно катилась вперед. Киссура слегка мутило, из носу капала кровь. Скверно будет возвращаться домой в таком виде.
Киссур миновал еще несколько особняков и остановился перед красивыми бронзовыми воротами. На воротах сплетались в танце лошади и павлины, синяя эмаль на хвостах лошадей искрилась в свете фар. Это были такие красивые ворота, что казалось, будто они ведут с земли на небо. За воротами, в ночи, сладко пах сад, и из темной массы деревьев торчали репчатые башенки флигелей и боги, грустящие на плоских кровлях крытой дороги. Сбоку, на воротах, блестела табличка слоновой кости: «Шаваш Ахди. Министр финансов». Под табличкой стояла маленькая фигурка бога-покровителя ворот. В руке у бога была корзинка с рыбой. Под фигуркой бога-покровителя стояла мраморная чашка, и в ней, демонстрируя скромность хозяина и напоминая о тростниковых хижинах древних чиновников, горел кусок высушенного коровьего навоза, пропитанного жиром.
Почему-то ворота были закрыты: министр финансов не кормил сегодня ни чиновников, ни нищих.
Киссур усмехнулся.
Обладатель особняка мог бы написать на табличке множество разных званий: Хранитель Благочестия, Парча Истины, Цветник Заоблачной Мудрости, Луг Государственной Добродетели и прочая, и прочая, – которые он довольно регулярно получал от императора и которые полагается писать на надвратных табличках наряду с именем и должностью. Но обладатель особняка часто принимал людей со звезд и, видимо, понимал, что Парча Истины и Цветник Мудрости – это звания, которые не очень-то вдохновляют чужеземцев.
Киссур помигал фарами: вдруг ворота, безо всякого окрика, разошлись в стороны, и Киссур въехал внутрь.
Двор был ярко освещен. В фонтанах, снизу вверх, били струи воды и света, и было видно, как над струями прыгают разноцветные шарики. Ряды колонн и розовых кустов вели к открытым парадным покоям. Вершины колонн, из резного нефрита, отделанного серебром, уходили к луне. Хозяин, сбегая с мраморных ступеней, уже спешил по широкой дорожке. Слуга с поклоном отворил дверцу, и Киссур вылез из машины.
Министр финансов был мужчина лет на пять старше Киссура, в самом еще расцвете мужской красоты и стати. У него было чувственное и лукавое лицо с влажными красными губами и чуть намечающимся двойным подбородком, вьющиеся волосы цвета спелой соломы и поразительные глаза: большие и печальные, словно из чистого золота. Такой цвет глаз бывал только у коренных жителей империи, – в Чахаре и Кассандане сохранились всего несколько сел, где у каждого крестьянина были такие глаза.
Несмотря на позднее время, министр одет был скорее по-чужеземному: длинные штаны и серый свитер без всякой вышивки. Искусный его покрой скрывал легкую полноту чиновника, и министр выглядел безупречно, если бы не один маленький недостаток, особенно заметный в присутствии Киссура. Чиновник был ниже белокурого варвара ровно на добрую голову, и даже изящные туфли с трехсантиметровыми каблуками не спасали положения.
Господин Шаваш замер, увидев, кто вышел из машины, но сразу же оправился, раскрыл руки и обнял Киссура.
– Здравствуй, – сказал он.
– Вот, – сказал Киссур, – ехал мимо и решил заглянуть. Прости, что не спросился… Не люблю я этих, – фью-фью… – Киссур просвистел популярную в этом сезоне мелодию и для пущей наглядности щелкнул пальцами по запястью, на котором красовался дорогой платиновый комм. – Ты не занят?
Господин Шаваш покосился на помятую дверцу, оглядел Киссура с ног до головы.
– Дай-ка мне твое водительское удостоверение, – сказал чиновник.
Киссур выгнул брови, вытащил бумажник и протянул удостоверение. Шаваш помахал удостоверением, подумал, разорвал его на части и бросил в подсвеченный фонтан. Любопытные рыбки поспешили к бумажке.
– Кого сбил?
– Никого я не сбил, – ответил Киссур, – о столб ударился.
Это была, конечно, недолгая ложь. Если иномирец мертв, Шаваш узнает все завтра утром, а если иномирец жив, то, пожалуй, что и сегодня ночью. Но Киссур приехал к Шавашу не затем, чтоб замять скандал. Слава богу, еще не наступили те времена, когда всякий чужеземец при галстуке может безнаказанно подать жалобу на личного друга государя.
– У столба-то, – заметил Шаваш, – пудовые кулаки.
– Ты кого-нибудь ждешь? – спросил Киссур, – я не вовремя?
Шаваш чуть заметно смутился.
– Ты всегда вовремя.
Шаваш отдал приказание: Киссур прошел в гостевые покои. Слуга, семеня, поспешил за ним с корзинкой с чистым бельем. Шаваш сказал вдогонку:
– Больше ты не сядешь за руль. А то когда-нибудь убьешься.
– Ничего, – отозвался Киссур, – кого боги любят, тот умирает молодым.
* * *Через двадцать минут слуги, кланяясь, провели Киссура по крытой дороге в Павильон Белых Заводей.
В усадьбе господина Шаваша было два павильона для приема гостей: Павильон Белых Заводей и Стеклянный Павильон. Павильон Белых Заводей был отделан в старинном духе, ноги утопали в белых коврах, под потолком качались цветочные шары, золотые курильницы струили благовонный дым, на стенах висели подбитые мехом шелковые свитки, а углы (скверная вещь угол, от нее идет все плохое в доме) – были надежно скрыты от глаз поднимающимися до самого потолка комнатными вьюнами. Стеклянный Павильон проектировал какой-то иномирец, и там был только хром да стекло.
Подданных императора Шаваш обычно принимал в Павильоне Белых Заводей, а иномирцев – в Стеклянном Павильоне. Утверждали, что у этих двух мест есть волшебное свойство: когда господин Шаваш принимал своих соотечественников в Павильоне Белых Заводей, он вел одни речи, а когда он принимал иномирцев в Стеклянном Павильоне, речи его были совсем другие. Например, если его спрашивали о причинах бедности империи в Павильоне Белых Заводей, то он жаловался на жадность людей со звезд, которые только и норовят, что купить побольше Страны Великого Света за кадушку маринованного лука, а если его спрашивали о том же самом в Стеклянном Павильоне, то он жаловался на леность и корыстолюбие вейских чиновников. И так как все эти речи произносил один и тот же человек, то, согласитесь, без волшебных свойств самих помещений тут дело не обошлось.
Слуги внесли на подносах жареного гуся и корзины с отборными фруктами, уставили стол овощными и мясными закусками. Последней принесли дыню, плававшую в серебряном ушате. Шаваш, надевший уже вместо чужеземного свитера черную бархатную куртку с золотым узором из переплетающихся трав, с почетом усадил Киссура на место гостя и отбил горлышко глиняному кувшину с вином. Киссур поймал отбитое горлышко и взглянул на печать.
– Хорошее вино, – сказал Киссур, – если эту печать не подделали.
– В моем доме подделок не бывает, – отозвался Шаваш, – его сделали в Иниссе, в пятый год правления государя Варназда.
– Его сделали, когда империя еще была империей. Его сделали тогда, когда я еще не был министром, а был разбойником в горах Харайна и когда моя жена была твоей невестой.
Шаваш чуть усмехнулся и разлил вино в чашки.
– Я бы, – проговорил Киссур, – выпил того вина, которое было розлито при государе Иршахчане. Когда в империи не было ни торговцев, ни взяточников и когда всякие варвары с гор или с небес не тыкали нашему народу в глаза своими мечами или своей наукой.
– Боюсь, – отозвался Шаваш, – что вина такой давности не осталось, а если и осталось, то давно превратилось в уксус.
Друзья сплели руки и выпили вино.
После этого Шаваш принялся за закуску из молодых ростков бамбука и речного кальмара, политого пряным инисским соусом. Киссур, прищурившись, катал в руках свою чашку и глядел на человека напротив.
Даже среди вейских чиновников, которых никак нельзя было заподозрить в избытке добропорядочности, Шаваш заслужил репутацию отъявленного корыстолюбца. Брали слуги Шаваша, брали его подчиненные, брала его жена (кстати, сестра жены Киссура), брали землями и акциями, лицензиями и деньгами, опционами и породистыми конями, новейшими финансовыми инструментами и старинными картинами, брали от окраинных миров и серединных, брали от Федерации Девятнадцати и от Геры, – впрочем, диктатор Геры сам не брал и другим давал мало. Один чиновник расспрашивал, что такое супермаркет, ему объяснили, что это место, где можно купить все. «Да это же дом господина Шаваша!» – изумился чиновник. Киссур сам как-то, после особо возмутительной сделки, взял Шаваша за грудки на приеме у государя и осведомился, почем фунт родины. «Я родину люблю и продаю ее дорого», – осклабился Шаваш. Господин Шаваш говаривал: если человек говорит, что он не любит деньги, значит, деньги его не любят.
За семь лет, прошедших с того, как иномирцы пришли в империю, в стране сменились четыре правительства, и каждое из правительств отменяло всех сановников предыдущего. Шаваш был единственный из высших чиновников, который состоял при всех них и при всех уцелел, – и первый, кого он предал, чтобы уцелеть, был его учитель и господин Нан, сделавший его из маленького воришки большим начальником. Из-за такого политического долгожительства в руках Шаваша, несмотря на его незначительное происхождение и молодые еще лета, стянулись все нити влияния и управления страной.
Шаваш мог помочь всему и всему мог помешать, и даже самым лопоухим из иномирцев, прилетавших на Вею с целью инвестировать в строительство какого-нибудь курорта на лоне первозданной природы или в разработку уранового рудника, каковая разработка рано или поздно с первозданной природой покончит, – было известно, что прежде всего надо идти на смотрины к министру финансов и инвестировать сначала в Шаваша, а уж потом в рудник.