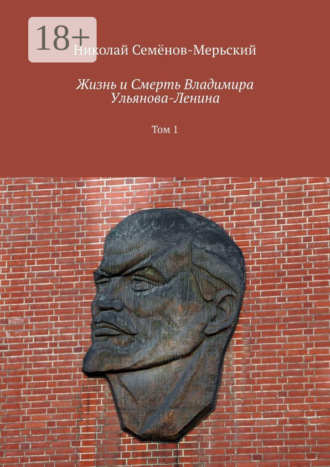
Полная версия
Жизнь и Смерть Владимира Ульянова-Ленина. Том 1
Поскольку работа в адвокатуре занимала немного времени, Владимир Ульянов всю свою энергию и силу воли направил на изучение марксизма и активную подготовку к предстоящей революционной деятельности.
«Ветераны» ворчали на молодежь и по-своему были правы. Молодежь действительно была уже «не та». В конце 80-х годов, опыт хождения в народ, аресты и ссылки, уже не вызывали энтузиазма в сторонниках народничества. Народники к этим годам успели разочароваться в «прирожденной преданности» крестьянства коммунистическим идеям. Чувство неудовлетворенности народничеством, точно характеризовало настроения радикальной молодежи.
Но что-что, а уж ворчание «ветеранов» менее всего пугала Ульянова и его друзей, они принадлежали к числу тех, кому «лезть за словом в карман», не приходилось. Их представитель, Владимир Ульянов, не упускал случая скрестить полемические шпаги с любыми оппонентами, не взирая ни на какие авторитеты.
В двадцатых числах декабря 1889 года, в Самару приехал ново-народоволец, как он сам себя называл, Михаил Сабунаев, группа которого была занята собиранием сил разгромленной царским правительством «Народной воли», для организации революционных действий. Для встречи с Михаилом Васильевичем, которому уже исполнилось 45 лет, собралось человек 12—15 молодежи. Сабунаев зачитал им проект программы «Союза русских социально-революционных групп», и пояснил, что «ново-народническую партию надо считать переходной или, вернее, партией, объединяющей народовольцев, народников, социал-демократов и прочие оппозиционные группы в единое целое для борьбы с царским правительством. А поскольку, их практическая программа действия среди фабрично-заводских рабочих нисколько не разнится от программы марксистов, социал-демократов, то они готовы сгруппироваться и под знаменем марксизма». Как предстояло бороться с царским правительством, на этом особо не останавливались.
Главным оппонентом Сабунаева выступил на этом собрании Владимир Ульянов. Он решительно отверг возможность объединения народников с марксистами на столь неопределенной платформе.
В 1891 году в России начался голод. И хотя он охватил лишь 17 губерний Поволжья и Черноземного центра с населением около 30 миллионов человек, голод стал проявлением глубокого общенационального кризиса, сравнимого по значению разве что с поражением в Крымской войне.
Сбор хлебов оказался в этом году наполовину ниже, чем в предшествующие, тоже весьма скудные, годы. А поскольку недород совпал с полным истощением крестьянского хозяйства, страдавшего от безземелья, кабальной аренды, непосильных налогов и выкупных платежей, кабатчиков и мироедов, голод стал следствием не столько погодных условий, сколько социально-экономических процессов, происходивших в российской деревне после 1861 года.
Дальше началась обычная российская история. Получив ссуду на закупку продовольствия для голодающего сельского населения, расторопные «земцы» передали закупки продовольствия спекулянтам-хлеботорговцам. В той же Самаре, они втридорога переплатили купцу Шихобалову, почти 1,5 млн рублей за 12 тысяч пудов порченой муки, оказавшейся непригодной для выпечки хлеба. С оставшимися миллионами, для закупки хлеба в южных губерниях, направили члена губернской управы Дементьева. После двухмесячного пребывания на юге, он зерно доставил, но опять-таки, как писал «Волжский вестник», с солидной, до 30%, примесью сорняков, песку и даже мелких камешков.
Нечто похожее происходило и в других губерниях. Так что ссудная помощь оказалась растраченной с большими потерями. Даже в апреле 1892 года, когда выдача ссуд приобрела наибольший размах, помощь получили лишь 11,8 млн человек, то есть около трети пострадавшего населения. От еще более худшего, Россию уберег транспорт муки, прибывший в губернию весной 1892 года из Америки, и финансовая помощь английских квакеров, которых привезли в Самару граф Гейден и князья Петр и Павел Долгоруковы.
Параллельно и в противовес «официальной» помощи, с лета 1891 года, стала организовываться общественность. Начало положил Лев Толстой, который, при всем своем неприятии благотворительности, стал создавать в Тульской губернии бесплатные столовые, для голодающих.
Поначалу правительство решительно выступило против помощи общественностью. Правительство поддержала и наиболее реакционная часть дворянства. Даже знаменитый лирический поэт Афанасий Фет и тот заявил, что крестьяне не нуждаются в благотворительности, ибо бедствуют единственно только по своей лености и склонности к пьянству. Но когда общественная помощь, несмотря на противодействие, приобрела достаточно широкий размах, Александр III, 17 ноября 1891 года, издал на имя своего сына и наследника Николая, рескрипт. В нем, он публично признал сам факт недорода хлебных произведений, и учредил «Особый комитет» для руководства всем делом общественной благотворительности, во главе с будущим государем Николаем II, который опирался в деятельности комитетов, прежде всего на губернаторов.
Позицию марксистов в начале, 1892 года сформулировал Георгий Плеханов, в статье «Всероссийское разорение» и в письмах «О задачах социалистов в борьбе с голодом в России». Не осуждать надо ту молодежь, тех добровольцев, писал Плеханов, кто полагает, что можно «вычерпать чайной ложечкой глубокое безбрежное море народных страданий. Эти люди бесстрашно исполняют свой долг, как они его понимают. Неужели мы останемся позади них?» Нет! Социалисты должны идти дальше и направить свои усилия на борьбу с причинами народного бедствия. Если у правительства и буржуазии есть хлеб и деньги для благотворительности, создающей лишь иллюзию помощи, то у социалистов есть только слово. Они не могут накормить голодающих, но они должны разоблачать всю правительственную политику, всех чиновных казнокрадов и лихоимцев, паразитирующих на людском горе. Социалисты обязаны способствовать росту классового сознания трудящейся массы города и деревни, правильному пониманию причин нынешнего голода, чтобы народ мог вырвать свою судьбу из рук царских чиновников, завоевать политические права, и прежде всего всеобщее равное и прямое избирательное право. Только созванный таким образом Земский собор сформирует правительство, способное удовлетворить народные нужды, и даст русскому земледельцу возможность сеять хлеб, а не голод. Именно для этого социал-демократы станут добиваться «полной экспроприации крупных землевладельцев и обращения земли в национальную собственность. Ну а если крестьяне захотят поделить ее между общинами, и в том не вижу я беды. Россия, заключает Плеханов, спасет себя революцией. Только лозунги, обещания и перспективы. Этим было озвучено программное требование Социалистического Интернационала, по национализации земли государством.
Несмотря на неисчислимые толпы нищих, плач и стенания на каждом шагу, на ежедневно описываемые в газетах ужасы в голодающих районах, либеральное общество продолжало то же обычное течение жизни, которое наблюдалось в Самаре до голодных дней. Балы, концерты, танцевальные вечера шли своим чередом, с той только разницей, что теперь иногда концертировали или танцевали в пользу голодающих. Своим чередом устраивались и «журфиксы», вечера приёма гостей, с танцами, чаем и колбасой.
Само крестьянство, к этому времени развития капитализма в России, уже социально расслоилось. Статистики выделяли три основные группы в крестьянстве. Первая, зажиточные крестьянские семьи, засевающие более 25 десятин на двор. Численно она составляет около 20 процентов жителей деревни. Вторая, средние хозяйства, обрабатывающие от 10 до 25 десятин пашни. Их доля среди общинников равна примерно 40 процентам. И третья группа, крестьяне бедные, то есть мало сеющие, до 10 десятин, или не сеющие вообще, которых среди жителей села также насчитывается около 40 процентов.
Примечание: десятина в метрической системе мер составляет 1,09 гектара.
Во многих местностях образовалось «новое крепостное право». Господами являлись уже не помещики, а управляющие их поместьями, местные кабатчики, кулаки и мироеды, грубые полуграмотные хищники, грабящие и спаивающие народ с беспощадной последовательностью, захватывавшие землю за долги.
Господам российским народовольцам, демократам, либералам и иже с ними марксистам, не когда было бороться за права трудовой массы населения, включая беднейшее крестьянство. Их больше влекли к себе масштабные проекты, казнь самодержца, свержение правительства, революция, всеобщее избирательное право, самых продвинутых, вооружённое восстание и массовый террор.
Глава 4
Завершение Самарского период. Переезд в С.-Петербург. Ссылка в Шушенское
Российская интеллигенция, дабы не попасть в разряд «неблагонадежных», всегда старалась сочетать самую бурную общественную деятельность с казенной службой. После получения университетского диплома эту проблему надо было решать и Владимиру Ульянову.
В свое время, получив «генеральский чин», действительного статского советника, Илья Николаевич сшил для надлежащих визитов фрак. Подобных визитов оказалось немного, и после его смерти этот, почти новенький фрак, висел в шкафу. Теперь его извлекли оттуда, примерили, хотя отец был фигурой помельче сына Володи, фрак Владимиру Ульянову пришелся впору. Теперь, направляясь в Окружной суд для выступлений, в качестве помощника присяжного поверенного, он каждый раз облачался в сию одежду отца. Но это была частная практика, казённой службы Владимир Ульянов так и не получил, был в списке лиц, запрещённых к приёму на государственную службу.
3 часа 30 минут пополудни 5 марта 1892 года, Владимир Ульянов впервые занимает место за адвокатским столиком.
В 1892 году Владимир Ульянов организует первый в Самаре кружок по изучению Марксизма. В него вошли 6 человек, включая самого учителя, Скляренко, Семёнов, Кузнецов, Лебедева, Беляков. Изучали произведения Маркса, «Капитал», Энгельса, «Анти-Дюринг», «Положение рабочего класса в Англии», работы Плеханова и других марксистов, что можно было достать в Самаре. Кроме изучения работ Маркса, Энгельса и Плеханова, все члены кружка стали заниматься пропагандой марксизма.
В апреле 1893 года Владимиру Ульянову исполнилось уже 23 года. В это время, весной, свои анализы по статистике крестьянского хозяйства и выводы, Владимир Ульянов изложил в статье «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни». Это была первая из сохранившихся работ Владимира Ульянова по марксизму. В этой статье он проанализировал материал работы Постникова, «Южное-русское крестьянское хозяйство». Ульянов критикует автора за непоследовательность и методологические ошибки, даёт марксистскую характеристику положения русской деревни, разбивает народнический миф, об особом, неизменном укладе крестьянского хозяйства. Пытаясь опубликовать статью в журнале «Русская Мысль», Владимир Ульянов получил отказ. В декабре 1892 года за аналогичную статью Павла Скворцова, закрыли достаточно умеренный журнал «Юридический вестник», и редакторы журналов были начеку. Вукол Лавров, редактор журнала «Русская мысль», писал Чехову: «Теперь, когда цензура насторожилась и смотрит на нас взором аспида и василиска, я опасаюсь, как бы не вышла какая-нибудь пакость». Поэтому, видимо, когда Владимир Ульянов послал в «Русскую мысль» свою статью о книге Постникова, он получил вежливый отказ. Эта статья Владимира Ульянова, была опубликована впервые в 1923 году, в Советской России.
И мысль о том, что время неумолимо идет вперед и используется оно отнюдь не лучшим образом, видимо, не раз приходила в голову Владимиру Ульянову. Хардин, внимательно следивший за работой своего помощника, считал, что со временем из Ульянова выйдет отличный «цивилист», адвокат, специализирующийся на гражданском праве. А пока, пусть занимается мелкими уголовными делами, которые дадут ему и судебный опыт, и интереснейшие жизненные наблюдения. Дела мелкие кражи, семейные конфликты. Ульянов добивался наказания по минимуму. Чтобы стать полноценным адвокатом, присяжным поверенным, надо было отработать в должности помощника, не менее 5 лет.
Впрочем, все образовалось как бы, само собой. В июне 1893 года, младший брат Дмитрий успешно сдал гимназические экзамены, и решено было, что поступать Дмитрий будет в Московский университет. А стало быть, и семье надо перебираться на жительство в Москву. Исключение из этого составил лишь Владимир.
Он не захотел основаться в Москве, куда направилась вся его семья, вместе с поступающим в Московский университет младшим братом Дмитрием. Москву, жители С.-Петербурга называли большой деревней, в ней было много провинциального, а Владимиру Ульянову был нужен промышленный центр. Он решил поселиться в более живом, умственном и революционном С.-Петербурге. Чтобы взяться вплотную за революционную работу, необходимо было поселиться самостоятельно, не в семье, членов которой он скомпрометировал бы.
24 апреля и 12 мая Владимир последний раз выступил в суде и уехал в Алакаевку. 23 июля был составлен договор о продаже за 8 тысяч рублей хутора и мельницы их соседу, помещику Данненбергу. Но эта сделка сорвалась, и Алакаевку перекупил местный купец Данилин. 12 августа Ульянов вернулся в Самару и через четыре дня подал прошение председателю Самарского окружного суда, в котором он просил выдать ему справку о том, что он состоял в аналогичной должности в Самаре, намереваясь причислиться в помощники присяжного поверенного в округе С.-Петербургской судебной палаты.
Возвращаясь в С.– Петербург, Владимир Ульянов сделал остановку в Нижнем. Здесь, в мансарде дешевой гостиницы, которую называли «У Никанорыча», в августе 1893 года и произошла первая его встреча с Павлом Скворцовым. В Казани, в 1887—1889 годах, они так и не встретились. В 1889 году Павел Скворцов перебрался в Нижний Новгород, опять работал в земстве статистиком, по-прежнему писал в «Волжский вестник» и столичные журналы. Вокруг него и здесь сложился марксистский кружок, через который прошли Ванеев, Сильвин, Мицкевич, Леонид и Герман Красины, Владимирский, Гольденберг-Мешковский, многие из тех, с кем позднее придется сотрудничать Владимиру Ульянову.
В этой маленькой мансарде, насквозь прокуренной, вспоминал Михаил Григорьев, участвовавшего в данной встрече, у них с Владимиром Ульяновым, разговоры шли в течение шести часов.
Михаил Григорьев, один из первых руководителей марксистских кружков в Нижнем Новгороде.
В первых своих работах, написанных еще в Самаре, Ульянов формулирует идею экспроприации помещичьего землевладения и национализации земли, которые создали бы демократическую почву для расцвета «фермерских отношений» и подъема благосостояния всего населения.
Когда Ульянов высказал эти свои идеи Скворцову, Павел Николаевич взорвался и назвал его «ревизионистом», ибо он твердо знал, в последней главе первого тома «Капитала» говорится нечто прямо противоположное тому, что утверждал этот лобастый юноша.
Много лет спустя, в 1929 году, Павел Николаевич Скворцов, в беседе с историком Бешкиным сказал, что спор шел у него с Владимиром Ульяновым главным образом о «развитии русского капитализма». Ссылаясь на Энгельса, Скворцов утверждал, что разложение общины и «освобождение» крестьян от земли является единственным реально существующим вариантом дальнейшего развития. Этот путь прошли европейские цивилизованные страны, и иного, как бы это ни было прискорбно, не дано. Плеханов так же был достаточно близок к этой позиции. «Социал-демократы», писал он в 1892 году, «не должны думать, что им легко будет предупредить предсказываемую Энгельсом экспроприацию крестьянства от земли. Всего вернее, что это им не удастся. Но ответственность падет за это не на них, а последствия этого послужат опять-таки им на пользу». Важно отметить, что если Плеханов считал все-таки возможным для социал-демократов стремление «предупредить экспроприацию крестьянства», то Павел Скворцов любую попытку препятствовать данному процессу, оценивал, как реакционную.
От своего учителя, профессора Зибера, Павел Николаевич унаследовал и некоторую однобокость восприятия марксистской теории. Народник Березин писал, что Скворцов в разговоре с ним заявил, что его интересует больше теоретическое решение вопроса, а не практика революционного движения, и производил впечатление «человека не от мира сего.
Обвинение в «ревизионизме» привело Ульянова к еще одному весьма существенному выводу, который он также сформулировал в своих работах, теория Маркса, дает лишь общие руководящие положения, которые применяются в частности к Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии иначе, чем к России.
Владимир старался расширить круг общения. Он переписывался с Федосеевым и, в частности, передал ему во Владимирскую тюрьму свою рукопись, с подробным разбором книги Николая Францевича Даниельсона, «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства», вышедшей в начале 1893 года. Даниельсон русский экономист, публицист-народник, издатель, переводчик «Капитала» Карла Маркса на русский язык и автор первого завершённого перевода трёх томов «Капитала», один из идеологов и теоретиков либерального народничества.
Петру Маслову, одному из руководителей выступления студентов Казанского университета в 1887 году, Владимир послал в Уйский поселок, в Оренбургском крае, свою рукопись, с обстоятельным анализом работ Воронцова, «О развитии капитализма в России». Но более всего он стремился получить выход на страницы прессы.
После Нижнего Новгорода, Владимир Ульянов сделал остановку в городе Владимире, для свидания с Федосеевым.
Встречу со связным Владимир Ульянов ожидал у стойки буфета железнодорожного вокзала. Пришёл за ним на вокзал, член Федосеевского кружка Николай Львович Сергиевский. Николай Сергиевский, встречавший Ульянова на вокзале, вспоминал,«в назначенный час я пришел на вокзал и, окинув взором почти пустой буфет тут же заметил около условленного столика маленького человека со всеми приметами Владимира Ульянова. Немедленно подошел к нему, сказал пароль. В. И. ответил, быстро взял свой саквояж и без дальних слов направился за мной. Первое время мы шли почти молча. Я с любопытством наблюдал его. Маленький, щупленький, скромный, аккуратно и, что называется, прилично, но без претензий одетый человек, ничем не обращающий на себя внимание среди обывателей. Этот защитный цвет мне понравился. Все та же, что и теперь, рыжеватая бородка клинышком, усы по тому времени не стриженные, татарский разрез глаз и примечательный череп, тогда еще покрытый, хотя и крайне небогатой растительностью. Того лукавого выражения лица, которое потом уже, после ссылки, обратило на себя мое внимание, тогда я не заметил. Вероятно, в тот период оно еще отсутствовало. Осторожный, пытливо озирающийся, наблюдательный, сдержанный, при всей своей, мне уже известной по письмам, темпераментности, В. И. представлял собой полнейшую противоположность Н. Е. Федосееву. Ого, думал я, если пламенный, отчаянный Н. Е. сложит свою буйную голову, то этот сложит голову общего врага».
Сергиевский отвёл Ульянова на Ново-Конную площадь, ныне улица 10 Октября. Здесь в одноэтажном деревянном домике с мезонином, где Мария Гопфенгауз сняла квартиру для Федосеева, Владимир Ульянов ждал его несколько часов. Вернувшаяся Мария Германовна, безуспешно хлопотавшая о выходе из тюрьмы Федосеева, хотя бы на несколько часов, сообщила, что жандармы освобождения Федосееву не дали. Откладывать отъезд до следующего дня Ленину было нельзя и, прекрасно запомнив дорогу, благо идти было рядом, Владимир Ульянов один ушел на вокзал и уехал в Москву.
В Москву из Самары, с 1891 года переехала и поселилась семья Ульяновых в связи с поступлением в Московский Университет Дмитрия Ульянова. Будучи в Москве, Владимир Ульянов работал в читальном зале библиотеки Румянцевского музея и встречался с местными марксистами, Винокуровым, Мицкевичем, Рязановым, Лядовым, Прокофьевым.
Но С.-Петербург был лабораторией революционных идей, центром жизни, движения, деятельности, и Владимир Ульянов, желавший посвятить себя революции, стремился в С.-Петербург.
Основания для самых радужных надежд у Владимира были. Еще в 1891 году, когда он весной и осенью приезжал в столицу для сдачи экзаменов в университете, по рекомендации Аполлона Шухта, Ульянов познакомился с преподавателем аналитической химии Технологического института Людвигом Юльевичем Явейном, и заведующим химической лабораторией Александровского чугунолитейного завода при Николаевской железной дороге Альбертом Эдуардовичем Тилло.
Оба они, еще с начала 80-х годов, лично знали Фридриха Энгельса, Вильгельма Либкнехта. И это уже само по себе, должно было произвести огромное впечатление на молодого марксиста. Мало того, еще в Казани Владимир мечтал прочесть книгу Энгельса «Анти-Дюринг», в которой, как ему говорили, «поставлены все принципиальные вопросы марксистского мировоззрения». Но ни в Казани, ни в Самаре книги не было. А здесь, в С.-Петербурге, ее просто взяли с полки домашней библиотеки и вместе с новейшими номерами немецких социал-демократических журналов дали для прочтения и конспектирования
Именно в это время С.-Петербург все более выдвигался как центр нарождавшегося массового пролетарского движения, которое, по убеждению марксистов, должно было освободить Россию от царизма. Именно тогда, в начале 1891 года, во время забастовки судостроителей завода «Новое адмиралтейство», социал-демократическая группа Бруснева, имевшая достаточно широкие связи со столичными рабочими, установила контакт и со стачечниками. Владимир был в это время в Самаре. Но 12 апреля 1891 года, когда умер писатель-шестидесятник Николай Васильевич Шелгунов, Владимир Ульянов находился в С.-Петербурге.
Статьи Шелгунова по рабочему вопросу имели большой резонанс, и его похороны превратились в политическую демонстрацию. На демонстрации преобладали студенты, курсистки, пришли гимназисты и реалисты. Присутствовал сам Михайловский и другие знаменитости. Но самым неожиданным стало появление нескольких десятков рабочих. И среди множества венков был и их металлический венок с темно-зелеными дубовыми листьями и лентой с надписью, «Указателю пути к свободе и братству».
31 августа 1893 года Владимир Ульянов приезжает в С.-Петербург. Через два дня, он был зачислен помощником присяжного поверенного, по ходатайству присяжного поверенного Волькенштейна, с 3 сентября 1983 года. Судебными делами Ульянов практически не занимался, всё своё время и все свои силы он посвящал революционной работе. Вскоре он вступил в марксистский кружок, состоящий из студентов Технологического института, Радченко, Кржижановского, Старкова, Леонида Красина, Ванеева, Запорожца и других.
в Петербурге Владимир Ульянов не порывал и с адвокатской практикой, готовил защитительные досье для Волькенштейна, своего патрона, человека яркого, свежего таланта, нередко выступавшего по делам политического обвинения, принимал его клиентов, устраивал консультации по вопросам права для рабочих, бывал на шумных многоречивых собраниях молодых петербургских адвокатов, что регулярно проходили в канцелярии съезда мировых судей, выступал в судах с защитами.
Итак, Владимир Ульянов, почти четыре года за адвокатским столиком.
В ночь на 9 декабря 1895 года, помощник присяжного поверенного округа Санкт-Петербургской судебной палаты Владимир Ульянов, был арестован, по делу за активное участие в антигосударственной организации «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
За эти 14 месяцев, что он находился в тюрьме, шло расследование, осужден он ещё не был, находился в статусе задержанного, поэтому тюремного режима ему не досталось. В камеру ему приносили хлеб, молоко, минеральную щелочную воду, как больному с хроническим гастритом, о справках и облегчении режима позаботилась мама Мария.
Еда русско-немецкая. Супы молочные, растительные, крупяные, но редко, русские кислые щи, считавшиеся «тяжелыми» и «грубыми». Редко, сравнительно с волжскими возможностями, и русская уха, иногда летом. Вообще супы не доминировали, интеллигентность не допускала следовать столь «вульгарному» блюду. Это относилось и к хлебу. Черный хлеб употреблялся лишь в будни, к обеду. К чаю, ужину полагался белый. В воскресные дни и праздники на столе появлялся ситный. А ведь именно в ситном и в черном хлебе содержатся редкие витамины группы «В» и «Е», необходимые для активной жизнедеятельности. Их Владимир Ульянов практически не получал, поэтому и вырос он щуплым и низкорослым.
Мощными, огромными и несокрушимыми, его стали изображать статуи, которые делались советскими скульпторами согласно принципам социалистического реализма и партийности в искусстве.
Мясных блюд готовили мало. Да и то говядину, которую лишь отваривали, а не жарили, отваривать было легко, и отварная пища считалась «легкой», «полезной», а жарить, надо было много времени и уметь. О ботвинье, окрошке, солянках, рассольниках и кальях, тип рассольника из мяса или рыбы на огуречном рассоле, распространенных в Центральной России, в семье даже и не слышали. Среди горячих блюд доминировала яичница, а из немецких, «армериттер», моченный в молоке белый хлеб, поджаренный слегка на сковородке на сливочном масле и залитый яйцом. Крутые яйца и яйца всмятку по воскресеньям были обычным блюдом за завтраком и ужином. Другим дежурным блюдом были бутерброды, совсем уже немецкое в то время «кулинарное изделие». Бутерброды делались либо просто с маслом, либо с хорошей копченой рыбой, с осетриной, с балыком, с севрюгой. Именно копченая и соленая красная рыба была единственным сравнительно ценным пищевым компонентом, который получал в детстве Владимир Ульянов. Она имела огромное значение как источник фосфора.

