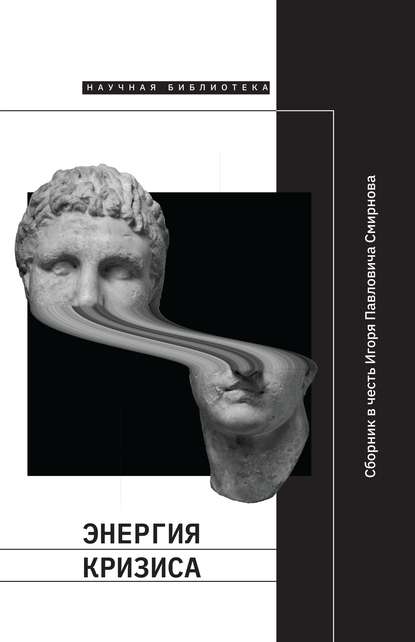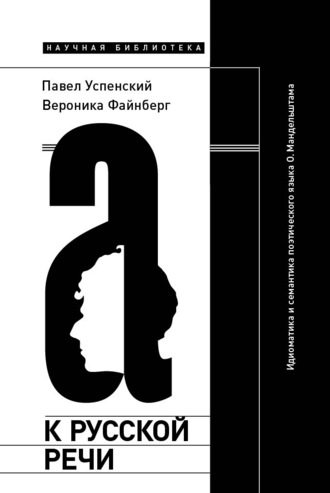
Полная версия
К русской речи: Идиоматика и семантика поэтического языка О. Мандельштама
«И на заре какой-то новой жизни <…> Зачем петух, глашатай новой жизни, / На городской стене крылами бьет?» («Tristia», 1918) – в связи с наступлением нового дня идиома на заре буквализуется (сохраняя свое фразеологическое значение в контексте дантовской новой жизни).
Стихотворение «Прославим, братья, сумерки свободы…» (1918) наполнено аудиальными образами («В ком сердце есть – тот должен слышать, время…», «…вся стихия / Щебечет, движется, живет», «Скрипучий поворот руля»), поэтому в строках «Восходишь ты в глухие годы – / О, солнце, судия, народ» эпитет глухой из коллокации глухие годы обнаруживает и буквальную семантику (‘неслышащие’), противопоставляющую эти годы новому, «звучащему» времени.
В конце стихотворения переосмысляется идиома земля плывет под ногами: «Земля плывет. Мужайтесь, мужи. / Как плугом, океан деля». Укороченная, она воспринимается буквально (плывущие смотрят на сушу, и им кажется, что она движется), хотя очевидно, что такое сочетание слов обусловлено именно названной идиомой и подпитывается ее семантикой.
«На все лады, оплаканное всеми, / С утра до ночи „яблочко“ поется» («Феодосия», 1919–1922) – поскольку идиома на все лады относится здесь к реальному пению, подключается и музыкальный смысл слова лад (‘строй произведения, сочетание звуков и созвучий’)28.
«Исчезнешь в нем – и Бог с тобой» («Вернись в смесительное лоно…», 1920). Разговорное выражение Бог с тобой в контексте, апеллирующем к Ветхому Завету, читается и как устойчивое ироничное благословение, и на буквальном уровне.
«Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла» («За то, что я руки твои не сумел удержать…», 1920) – кровь, с которой в языке связаны глаголы хлынуть и пойти, в стихотворении уподобляется подразумеваемой армии (идти на приступ, хлынуть к стенам и т. п.) в силу общей глагольной сочетаемости.
«И мысль бесплотная в чертог теней вернется» («Я слово позабыл, что я хотел сказать…», 1920) – слово бесплотная здесь, по всей видимости, нужно понимать в двух планах. В соответствии с контекстом и концептуальной метафорикой, мысль, подобно тени, не имеет плоти. Одновременно бесплотная мысль обладает идиоматическим значением ‘отвлеченная, невоплотимая’, которое сближается с семантикой выражения бесплодная мысль.
В первой строке стихотворения «Когда городская выходит на стогны луна…» (1920) антропоморфизированная луна оказывается способной выйти на площадь, поскольку ей свойственно выходить (или всходить) на небо.
В стихе «Скрипичный строй в смятеньи и слезах» («Концерт на вокзале», 1921, <1923?>) мерцающей кажется семантика слова строй: оно то ли связано с поэтическим описанием музыки, то ли характеризует ряд метонимически обозначенных скрипачей (тогда смятенье и слезы можно понять буквально).
«И сохранилось свыше меры / В прохладных житницах, в глубоких закромах / Зерно глубокой, полной веры» («Люблю под сводами седыя тишины…», 1921). Идиома зерно чего-либо (‘частица чего-то большего’) получает прямое значение благодаря образу житниц, сохраняя при этом значение фразеологическое и форму единственного числа.
«Где ты для выи желанней ярмо найдешь?» («С розовой пеной усталости у мягких губ…», 1922) – идиоматическое выражение вешать себе ярмо (хомут) на шею здесь поэтически модифицируется (шея → выя) и встраивается в контекст буквально: бык везет на своей шее Европу. Еще более интенсивным становится взаимодействие стихотворения с идиомой, если учитывать, что часто это выражение употребляется в отношении брака.
«Понемногу тает звук» («Холодок щекочет темя…», 1922) – в соответствии с заданной в первой строке темой холода обыгрывается коллокация звук тает: к исходному значению уменьшения громкости, возможно, добавляется образ звука как замерзшего объекта, способного таять. К тому же звук здесь соотносится с кровью и ее шелестом. Шелест крови («Как ты прежде шелестила, / Кровь, как нынче шелестишь»), в свою очередь, можно воспринимать и как яркую метафору, и как не вполне прижившуюся в языке, но встречающуюся в литературных текстах калькированную с французского языка идиому (см. подробнее: [Сарычева 2015]).
«Я хотел бы ни о чем / Еще раз поговорить» («Я не знаю, с каких пор…», 1922) – здесь переосмысляется идиома говорить ни о чем: ее элемент предстает как отдельное понятие. Нечто подобное происходит в стихотворении «Эта область в темноводье…» (1936), в строках «Только чайника ночного / Сам с собою разговор»: субстантивируется выражение говорить самим с собой.
«Против шерсти мира поем. / Лиру строим, словно спешим / Обрасти косматым руном» («Я по лесенке приставной», 1922) – в первой из приведенных строк в редуцированном виде представлено выражение гладить против шерсти (‘поступать или говорить не так, как хотелось бы кому-то’). Идиома при этом буквализуется: шерсть оказывается косматым руном. Эти строки описывают свойства поэзии – по формулировке О. Ронена, «новая поэзия космата, как мир, но гладит против шерсти» [Ронен 2002: 87].
Интересно сопоставить этот фрагмент со строками из «Зверинца» («Козлиным голосом, опять, / Поют косматые свирели», 1916, 1935), где поэзия тоже предстает косматой, поскольку так воплощается козел из сочетания козлиная песнь, которое подспудно вводит в текст свое переводное значение (‘трагедия’) с его семантикой.
«Под высокую руку берет / Побежденную твердь Азраил» («Ветер нам утешенье принес…», 1922) – выражение брать под высокую руку (‘под покровительство’) здесь получает и буквальное смысловое воплощение благодаря эпитету высокий, который соотносится с «небесным» контекстом.
«Тварь, покуда жизнь хватает, / Донести хребет должна» («Век», 1922). В этих строках отчетливо узнается устойчивое выражение пока хватает жизни / сил (хотя грамматически оно выражено неправильно). Одновременно из‐за изменения актанта глагол понимается в соответствии с его омонимичным значением: жизнь хватает (‘ловит’) тварь.
«На лбу высоком человечества» («Опять войны разноголосица…», 1923–1929) – коллокация высокий лоб (часто с идиоматической коннотацией ‘большого ума’) сопровождается образом гор («Как шапка холода альпийского») и поэтому прочитывается и в прямом значении.
«И светлым ручейком течет рассказ подков» («Язык булыжника мне голубя понятней…», 1923) – глагол течь в русском языке свойствен обоим существительным, ручейку — в прямом значении, а рассказу – в метафорическом.
«Кремнистый путь из старой песни» («Грифельная ода», 1923) – выражение старая песня (‘нечто общеизвестное, повторяемое’), на которое обратил внимание О. Ронен [Ronen 1983: 76], по всей видимости, не осмысляется в негативном или ироническом ключе, но сохраняет идиоматическую семантику. В то же время старая песня в этом стихотворении – буквальное указание на определенную «старую песню», на лермонтовские стихи («Выхожу один я на дорогу…»), которые лежат в основе всей «Грифельной оды».
«И известковый слой в крови больного сына / Растает…» («1 января 1924») – с одной стороны, коллокация в крови понимается метафорически, как во фразах это (например, свобода) у меня в крови. С другой – поскольку речь идет об извести как о некоем элементе, содержащемся в крови, образ можно понять буквализованно, в медицинском ключе (ср. известь в крови).
В строках того же стихотворения – «Я, рядовой седок, укрывшись рыбьим мехом, / Все силюсь полость застегнуть» – ироничное словосочетание рыбий мех (из‐за отсутствия у рыб меха) приобретает реальное измерение: см. строку «То мерзлой рыбою стучит…» и образ щучьего суда [Ronen 1983: 231, 285].
Щучий суд заставляет обратить внимание на внутренние элементы выражения не обессудь (просьба не осудить) из строки «Не обессудь, теперь уж не беда». В свете темы суда в следующих строках («По старине я принимаю братство / Мороза крепкого и щучьего суда» [Ronen 1983: 294]) в выражении становится особенно заметным корень – суд. О самом фольклорном образе щучьего суда см. ниже.
«Давайте с веком вековать» («Нет, никогда, ничей я не был современник», 1924) – идиома век вековать (‘долго жить, проживать жизнь’) здесь раскладывается на два элемента и грамматически модифицируется так, что «век» становится для говорящего будто бы спутником, товарищем по жизни. Это создает семантическую рекурсию: (век) вековать надо «вместе с веком» (ср.: [Ronen 1983: 241]).
«Если спросишь телиани, / Поплывет Тифлис в тумане, / Ты в бутылке поплывешь» («Мне Тифлис горбатый снится», 1920–<1928>) – благодаря контексту выражение в тумане может быть понято двумя способами – буквально и фигурально: ‘город окутан дымкой, туманом’ или ‘город поплыл в глазах пьяного, видящего все как в тумане’.
«После бани, после оперы, – / Все равно, куда ни шло. / Бестолковое, последнее / Трамвайное тепло…» («Вы, с квадратными окошками…», 1925) – в разговорной фразе куда ни шло (‘так и быть, ладно’) высвобождается и наделяется самостоятельным значением глагольный элемент. Таким образом, шло будто становится сказуемым для трамвайного тепла.
«И только и свету – что в звездной колючей неправде» («Я буду метаться по табору улицы темной…», 1925) – в строке буквализуется представленная в редуцированном виде идиома только и свету в окошке, что
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Разбор одного из приведенных, а также других (аналогичных) примеров см. в докладе М. И. Шапира 1992 года «Об одной тенденции в современном мандельштамоведении». URL: http://old.guelman.ru/slava/skandaly/m2.htm. Не можем не отметить, что его критика докладчика слишком персонализирована и практически не затрагивает саму интертекстуальную теорию в ее «хорошем», «правильном», «филологическом» виде. Возможность такого «чистого» существования теории у нас вызывает определенные сомнения, о чем см. ниже.
2
Интересно, что в начале 1970‐х годов к концептуальному описанию цитатности в поэзии другого модерниста – Блока – обратилась З. Г. Минц, см. ее статью «Функция реминисценций в поэтике Ал. Блока» (1973) [Минц 1973/1999]. Исследовательница предложила глубокое системное описание специфики и функций интертекстуальности в лирике поэта, однако в ее работе мы не находим того нормирования рецепции, которое сформировалось в мандельштамоведении: для Минц в этой статье прежде всего важно реконструировать объективные цитатные стратегии Блока (учитывающие культурный язык символизма), а не предложить конкретные интерпретации текстов (см. обсуждение проблемы интерпретации ниже).
3
См. нюансированный обзор генезиса и особенностей парадигмы подтекстов, написанный сторонником сложившегося подхода: [Сошкин 2015: 9–44; прим.: с. 227–301]. Наше описание несколько отличается от указанного, оно более схематично и исходит из позиции внешнего наблюдателя, а не ведется изнутри парадигмы.
4
Необходимо оговорить, что указанная тенденция в большей степени актуальна для поэзии постсимволизма. Хотя сама культурная модернизация и создание новой литературы приводят к тому, что цитация прежних текстов оказывается маркированной, по-видимому, в символистскую эпоху мемориальная функция заслонялась другими, в частности философской (см. классическую статью З. Г. Минц 1979 года «О некоторых „неомифологических“ текстах в творчестве русских символистов», в которой показано, как для авторов цитация становится частью символистского мировоззрения и символистской философии [Минц 1979/2004]; авторские интенции, впрочем, не отменяют того факта, что для читателей мемориальная функция могла быть более существенной). В определенной перспективе можно считать, что постсимволизм усвоил цитатную технику символистов, однако лишил ее философского наполнения и вывел на первый план идею напоминания о текстах; поводом к этой перемене могло быть предощущение социальных и культурных катастроф и сами исторические события.
5
О чтении между строк и эзоповом языке советского времени см.: [Loseff 1984; Каспэ 2018: 235–241; Вайль, Генис 2018: 191–196]. Приведем в связи со сказанным афористическую формулировку Вайля и Гениса: «Мир, в котором эзопова словесность замещает обыкновенную, требует особого способа восприятия. Читатель становится не пассивным субъектом, а активным соавтором. Более того, читатель превращается в члена особой партии, вступает в общество понимающих, в заговор людей, овладевших тайным – эзоповым – языком» [Вайль, Генис 2018: 193].
Тот факт, что интепретативный режим творчества Мандельштама стал базироваться на смыслах, поставляемых предшествующей культурной традицией, надо полагать, в значительной степени связан с культурной практикой обмена цитатами в разговорной речи, расцветшей в оттепельные годы и до сих пор сохранившейся у людей, сформировавшихся в советское время. По другой афористической формулировке Вайля и Гениса, «цитаты были профессиональным кодом шестидесятников, выполняя еше и функции опознавательности: по первым же словам угадывался единомышленник или идейный противник» [Вайль, Генис 2018: 176]. Авторам настоящей книги не раз доводилось слышать от коллег старшего поколения устные истории, в которых цитатным кодом для опознавания «своих» в 1970–1980‐е годы служили и стихи самого Мандельштама (так, способность человека подхватить цитату после фразы «Мы с тобой на кухне посидим» определяла дальнейшее времяпрепровождение). В каком-то смысле мышление цитатами и цитатный дискурс были приписаны и самому поэту.
Таким образом, мы предварительно можем говорить о том, что толкование Мандельштама в советское время основывается на совмещении практики чтения между строк и растворенного в повседневной жизни пристрастия к цитированию. Обе практики были связаны с идентичностью интеллигентского сообщества и формировали «своего Мандельштама». Образ поэта, стихи которого перенасыщены культурными отсылками, был противопоставлен официальной культуре советской эпохи и, по всей вероятности, хоршо встраивался во вненаходимость как в ключевое состояние человека послесталинского времени [Юрчак 2014]. Вместе с тем такой образ стихов поэта дополнялся канонизацией его личности и биографии, и здесь политическая оппозиционная составляющая (эпиграмма на Сталина) играла едва ли не ключевую роль. См. очень пристрастное, но содержащее много важных замечаний эссе О. Юрьева: [Юрьев 2013]. Обозначенные здесь темы нуждаются в дополнительном изучении.
6
В связи с удовольствием от «вчитанных» подтекстов уместно, кажется, вспомнить цитату из письма В. Шилейко к А. Ахматовой, которую приводит А. Найман в «Рассказах о Анне Ахматовой»:
Она показала мне несколько писем Шилейки, написанных каллиграфическим почерком, в изящной манере, с очаровательными наблюдениями книжного человека, с выписками на разных языках. «Целый день читаю Сервиевы комментарии к Вергилию. Прелестно! Вот Вам маленькие глупости:
И вежлив будь с надменной скукой (Мандельштам)
Nonne fuit satius tristes Amaryllidis irasAtque superba grati fastidia. Verg. Ecl. ii, vv. 14–15А Оська никогда и не заглядывал в Мантуанскую душу». (Двустишие из «Буколик»: Разве не было [мне] довольно печалящей гневливости Амариллиды / И надменного отвращения милого [Меналка]?) [Найман 1989: 80].
Апелляция к биографии не выглядит сильным аргументом, но для нас важно отметить, что современники Мандельштама, в отличие от многих позднейших исследователей, были готовы видеть в текстовых пересечениях случайное совпадение и получать от него удовольствие, не придавая перекличке характер глубинной смысловой связи.
7
Ср. с замечанием Л. Я. Гинзбург во втором издании книги «О лирике» (1974): «Ассоциативность творчества и ассоциативность восприятия заложены в самом существе поэзии. Но значение их неуклонно возрастало вместе с индивидуализацией контекста. Поэзия устойчивых стилей давала заранее смысловой ключ к своему словесному материалу. „Новая поэзия“ возложила эти функции на читателя. Процесс этот в конечном счете привел к возникновению понятия подтекст и к злоупотреблению этим понятием. Граница между текстом и подтекстом неопределима. Вся специфика поэтической речи – ассоциативность, обертона, отношения между смысловыми единицами, даже реалии, житейские и культурные, необходимые для понимания смысла, – все грозит провалиться в подтекст. Что же тогда остается на долю текста – слова в их словарном значении? Очевидно, надо говорить не о подтексте, но о тексте в его реальном семантическом строении, о контексте, определяющем значение поэтических слов» [Гинзбург 1997: 333–334].
См. также недавнюю ремарку в эссе О. Юрьева о другом поэте: «…я не стал бы искать в каждой его строке отсылки к чужим конкретным текстам, чем грешат филологи <…> Большой поэт потому и большой, что сам, бывает, порождает совершенно новые образы и контексты» [Юрьев 2018: 232].
8
Отметим, что в исследовании языка Мандельштама выделяется отдельная область изучения межъязыковых каламбуров. С момента публикации новаторской статьи Г. А. Левинтона [Левинтон 1979] фонд межъязыковых каламбуров в стихах Мандельштама периодически пополняется [Успенский Ф. 2014: 23–43; Литвина, Успенский 2016; Сарычева 2015; Сурат 2017]. Однако, несмотря на ряд остроумных и убедительных наблюдений, такой подход чреват опасностью вчитывания в стихи Мандельштама несуществующих языковых подтекстов, см., например, по преимуществу бездоказательные и произвольные построения Л. Р. Городецкого.
9
Нельзя не указать на попытки объяснять семантику Мандельштама, опираясь на разнообразные теории метафоры. См., например, опыт описания метафорики поэта через наложение проступающих друг через друга фреймов: [Zeeman 1987]. Надо полагать, такой путь по-своему перспективен, и к лирике поэта можно приложить, например, теорию метафоры как соединения двух доменов, разработанную Дж. Лакоффом. Хотя в работе мы иногда оперируем идеей концептуальных языковых метафор, в целом мы решили пойти по более традиционному пути, в рамках которого метафора (во всяком случае, метафора Мандельштама) вырастает прежде всего из языка, а не из концептуальных представлений (при всей нестрогости этого разделения). Такое решение продиктовано еще и тем, что в поэтике Мандельштама очень сложно провести границу между метафорами и неметафорами, – его стихи насквозь метафоричны. Оперирование сложными теоретическими построениями в этом вопросе, как нам кажется, переусложнило бы работу и увело бы в сторону от ключевого вопроса – как семантика стихов Мандельштама возникает благодаря взаимодействию с языком и языковыми нормами.
10
Следует подчеркнуть, что при этом мы старались уйти от представлений (во многом, впрочем, оправданных), согласно которым дискурсы и речевая деятельность сплошь основаны на готовых элементах языка. В такой перспективе речь всегда порождается благодаря этим элементам, и нет существенной разницы между идиомами, с одной стороны, и просто наиболее привычными словосочетаниями, с другой. Такая модель речи, в частности, задана в яркой и отчасти повлиявшей на нашу работу книге Б. М. Гаспарова [1996]. В концепции ученого восприятие и порождение речи основаны на «готовых блоках» – коммуникативных фрагментах (которые соединяются между собой, причем иногда между ними виден шов). Забегая несколько вперед, на двух примерах предельно схематично проиллюстрируем, чем нам не близок такой подход в рамках наших построений. Возьмем две строки Мандельштама: «вооруженный зреньем узких ос» и «Так вот бушлатник шершавую песню поет». Фрагменты строк – вооруженный зреньем и шершавая песня – резонно воспринимать как яркие авторские метафоры. В перспективе наших рассуждений одна из этих метафор отталкивается от идиомы, а другая нет. Так, вооруженный зреньем мы объясняем через идиому видно невооруженным глазом/взглядом, которая в строке сильно трансформируется. В случае с шершавой песней мы не можем указать на готовый языковой материал, который здесь подвергся трансформации. Однако в перспективе представлений о тотальном характере готовых блоков и коммуникативных фрагментов обе метафоры должны восприниматься как их трансформация. Подобно тому как вооруженный зреньем трансформирует известную идиому, шершавая песня отталкивается от распространенных «готовых блоков» – веселая / грустная / медленная / задушевная / грубая … песня и вместо ожидаемого элемента подставляет оригинальный – шершавый. Нам представляется, что объединение этих двух случаев не вполне правомерно, – здесь мы имеем дело с разными примерами. Вместе с тем мы признаем, что в нашем каталоге дальнейших примеров наверняка есть случаи, которые можно счесть слабосвязанными с идиоматикой.
11
Само слово фразеология во многих исследованиях обозначает разные явления. Как следует из обзора литературы, нас интересует работа Мандельштама с фразеологическим планом русского языка. Однако в некоторых работах, анализирующих поэтическую фразеологию, под фразеологией понимаются не общеязыковые элементы, а то, как в творчестве одного автора или группы авторов в определенный литературный период называются определенные явления (например, поэт – сын Феба или любимец Феба). В таких исследованиях в качестве фразеологизмов выступают устойчивые словосочетания, характерные для литературных текстов. См., например, работы А. Д. Григорьевой: [Григорьева 1964].
Язык Мандельштама в первом приближении описывался в этом ключе, см. попытку классифицировать наименования человека в его стихах – «Фразеологические наименования человека в стихотворениях О. Мандельштама: словарь» [Гончарова 2011].
Такой подход к фразеологии в нашей работе не учитывается.
12
См., например, один из подступов: [Бобрик 2018].
13
В терминологии И. А. Мельчука это несвободное словосочетание уместнее назвать прагматемой. В рамках данной работы важнее, однако, тот факт, что мы имеем дело именно с устойчивым и распространенным несвободным словосочетанием.
14
Может показаться, что это выражение приобрело эротический смысл лишь недавно, однако, согласно данным НКРЯ, фраза встречается в таком значении в первой трети XX века. См., например, у В. Я. Брюсова: «Корецкий схватил ее за руку, пытался обнять, повторял: – Я люблю тебя! Я хочу тебя!» («Через пятнадцать лет», 1909); у А. И. Куприна: «Я хочу тебя, только тебя… тебя… тебя одного!» («Яма», 1909–1915) и у других авторов.
15
По наблюдению О. Ронена, здесь парономастически обыгрывается фразеологизм петь с голоса [Ronen 1983: 173]. Однако учитывая другой случай употребления – «Я один в России работаю с голосу…» («Четвертая проза», 1930), можно предположить, что выражение с голоса Мандельштам использовал как автономное, не связанное с определенным глаголом.
16
[Ronen 1983: 218].
17
В этой строке можно увидеть и другое несвободное словосочетание – гости дорогие. Однако в отличие от ночь напролет оно употреблено в достаточно сложном контексте, поэтому рассматривается в разделе 6.
18
Это речение, ставшее крылатым, традиционно приписывается маркизе де Помпадур или Людовику XV.
19
Марь Иваннами называли обезьянок бродячих актеров. «Как показывает собранный нами материал, вполне идиоматический приказ обезьянщика „Изобрази еще…“ (= „Покажи, как…“) призывает зверька не вытягивать жребий, но представить, на потеху публике, очередную бабу с коромыслом» [Зельченко 2019: 29].