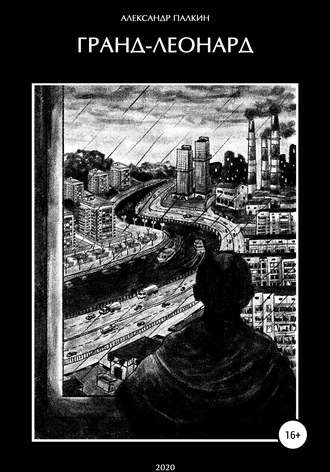
Полная версия
Гранд-Леонард
Смуглые все гремели и гремели, но скрежет прекратился. С замиранием сердца – уже в который раз – Рамон шел по этой лестнице вниз. На последних ступеньках, как и сутками ранее, он остолбенел от увиденного. В вестибюле никогда не было столько света. Его поток прорвался с улицы через разблокированный парадный вход, сорванные с петель двери и покореженные замки лежали тут же. На них топтались веселые вольноходцы, вооруженные ломами и другими инструментами. Пол был усыпан щепками и металлической стружкой.
– А, сосед дорогой! – добродушно крикнул Нурислан. Он подошел, вытирая со лба пот, с прекрасно знакомым Рамону молотком в руках. Его молотком.
– Видал, чего? Теперь весь простор наш, ага!
– П-простор? – глупо открыв рот, переспросил Рамон.
– Красота, да, – сказал старейшина, обернувшись к своим. Те ответили возгласами одобрения.
– А разве вы не в курсе…, – начал было Рамон и замолчал: он чуть не предупредил вольноходцев о наличии охраны. Очевидно, что Эдуард не мог не услышать пронзительный звук болгарки, а значит – уже спешил на место. Сам он незваных гостей не выгонит, но побежит вызывать полицию. Тогда-то и уберутся, как милые. Но Рамона и Элинор охранник не должен здесь обнаружить, иначе все будет напрасно! Нужно возвращаться наверх, затаиться и переждать процесс очищения оазиса от ненавистных паразитов.
Он еле удержался от злорадной ухмылки, глядя на ничего не подозревавшего Нурислана. Ничего, пусть, пусть порадуется еще минуту это наглое жирное создание. Жаль, не удастся увидеть, как улыбка сползет с этих гнусных рож; не выйдет насладиться тем, как они в спешке будут собирать и уносить пожитки, бормоча проклятья на своем уродливом языке.
– В курсе чего, дорогой?
– А-а-а… Ну, я имел в виду, что здесь все не достроено, так что мало толку. Погулять разве что по площади, – он фальшиво хохотнул и пожал плечами.
– Не беда, – бодро отмахнулся Нурислан. – Надо уметь искать. Тут такое можно найти, что всем нам хватит жить хорошо и долго!
– Ну да, да… Ладно, удачи, я пошел, – Рамон взлетел обратно по лестнице, давясь смехом и радуясь, как давно не радовался. Закрыл за собой дверь, дернул ручку, проверив надежность замка.
– Ты чего такой шальной? А мусор зачем назад принес?
– Какой мусор, Элинор, какой мусор! – Он вспомнил про пакет в руке, швырнул его в сторону и, подбежав к ней, оторвал от земли и закружил.
Она пискнула в легком испуге:
– Ой, что… Рамон, у тебя крыша поехала? Опусти меня.
– Милая, им конец, всё! Ха!
Рассказ о случившемся был короток. Последовали сладкие минуты ожидания, пока пара стояла в обнимку перед дверью. Привычно осторожное, едва слышное дыхание, чтобы не пропустить ничего.
Время шло, но ничего не указывало на желаемую развязку. Все так же вольноходцы разговаривали, топали, гремели посудой. Из приятного ожидание становилось утомительным.
– Я присяду, ладно? – сказала Элинор и пошла за табуреткой.
Рамон же упрямо остался стоять. Он бы предал собственное предвкушение, если бы оставил пост. Нет! Вот-вот, еще чуть-чуть… Быть может, Эдуард решил не идти сюда через половину сектора, а услышал шум и голоса издалека и со своего поста вызвал полицию? Данная догадка мужчину немного развеселила, и он принялся слушать и ждать с прежним упоением.
– Рамон, уже час прошел. Ты уверен, что…
– Да, – заявил он, хотя про себя признал, что Элинор имела основания сомневаться. Почему так долго? Полиция бы уже приехала. Разве что охранник по какой-то причине решил повременить. Но с какой целью? Почему тогда сам не явился? Струсил, поняв, как много народу предстояло прогнать – даром, что это не просто забредшие в Периферик ради острых ощущений подростки. Бродя по лабиринтам рассуждений, зачастую, тупиковых или абсолютно рваных, хаотичных, Рамон присел на корточки и ждал, ждал, пока не затекли ноги и не заболела поясница.
– Может, спуститься еще раз? – предложила, подавив зевок, Элинор.
– Нельзя. Заметит Эдуард – полетим вслед за этим сбродом.
– Он что-то не торопится. Может, выходной взял или заболел?
– Не знаю. Попробую выяснить.
Рамон выбрался на крышу, но толку от этого было немного: центральная башня заслоняла вид на противоположный конец сектора и, соответственно, пост охраны; так что понять, на месте ли Эдуард, не представлялось возможным. Он подошел к краю и посмотрел вниз. Примерно половина вольноходцев высыпала на улицу. Костер, который они развели прямо посреди двора, радостно трещал, пожирая входные двери и еще какой-то хлам. Беспробудно черные клубы дыма взвились в небо, когда высокий и тощий паренек подбросил в огонь нечто, похожее на кусок рубероида. Нурислан и молодые мужчины мастерили неподалеку скамейки и длинный стол. Женщины и старики, устроившись вокруг костра на тряпках и картонках, во всю силу своих глоток затянули заунывную песню на все том же чудном диалекте; им на миниатюрном струнном инструменте аккомпанировал Николай. Сквозь полотно действа грохочущей пулей прорвались дети: двое сидели в ржавой тачке, а еще двое ее тянули. Все смеялись и кричали до хрипоты.
– Эгей! – крикнул заметивший наблюдателя смуглый и помахал рукой с ухмылкой.
– Вот наглецы! – сокрушался Рамон, смотря то в один конец двора, то в другой, не понимая, почему до сих пор никто не появился и не прекратил запретный разгул свободы.
Неслышно подошла Элинор.
– Ну что?
– Как видишь, – Рамон указал рукой вниз.
– Ерунда какая-то. Что же делать?
– Я пойду туда.
– Куда? – женщина всерьез испугалась, что любимый собирается напасть на вольноходцев.
– К охраннику. Выясню, в чем дело, на месте ли он. Если нет – проберусь в его домик и сам вызову полицию. Попробую подойти осторожно, через сектор. Нет сейчас времени лезть через коллектор в Леонард и стучаться в ворота с той стороны. Пусть даже есть риск быть обнаруженным. Я не могу слышать и видеть этих идиотов, Элинор. Из-за них все идет прахом! Они должны исчезнуть отсюда сегодня же!
Элинор не стала спорить, но и согласия не выразила. Выражение ее лица сбивало столку, будто жалость, надежда и недоверие боролись друг с другом, отвоевывая себе побольше мимических полномочий.
– Я быстро, – заверил Рамон, чмокнул ее в щеку и поспешил вниз. Велико было желание оглянуться, но мужчина побоялся еще раз увидеть угнетавшую и пугавшую одновременно смесь эмоций в дорогих глазах.
Не обращая внимания на все, что творилось в вестибюле и снаружи, проигнорировав пару попыток его окликнуть, Рамон миновал внешний двор, перешел с быстрого шага на бег и устремился к башне. Впервые он выбрался, впервые не смотрел на эту плитку с крыши, но топтал ее ногами. В первый раз мог прикоснуться к цилиндрический махине, стоя именно там, где росла она из земли. Но в данный момент насладиться чувством выхода за привычные рамки Рамон не мог. Его внутренний компас был приведен в действие паникой, ненавистью, отчаянием и указывал прямо туда, где за простором площади, на границе обжитого и неудавшегося, стоял пост-контейнер Эдуарда.
Скопления высоток, левое и правое крылья сектора проплывали мимо медленно, но настолько буднично, просто, как если бы это был какой-нибудь невзрачный квартал в Верхнем Леонарде, а не элементы пробуждавшей трепет красоты – печальной, но величественной. Он обязательно, обязательно еще посмотрит на нее должным взглядом, уделит внимание сполна. Она стояла для Рамона и Элинор, ею нельзя было делиться с кем-то. Это же царство умиротворения и уединения, а не лагерь для беженцев или источник металлолома. Это – оазис, и он не позволит кому-либо выдавить их двоих обратно в безразличную к страданиям пустыню.
Пустота встретила Рамона у главных ворот, и будто главная башня рухнула на него, похоронив под собой чаяния и надежды. Справа от створок, где прежде располагался пост и небольшая бытовка, а также микролитражный автомобиль под навесом, лишь квадрат голой земли в окружении травы напоминал теперь, где стоял контейнер. Рамон с бешено колотящимся сердцем предположил, что пост могли перенести за стену, расположить по другую сторон ворот. Но нет, какой в этом смысл… Тем не менее, мужчина подошел к решетчатым воротам, чтобы убедиться своими глазами. Да. Хоть угол обзора и был скудный, стало совершенно очевидным, что на прилегающей территории – ни души, никаких построек. Только потрескавшийся асфальт и эстакада над никому не нужной автомагистралью.
– Эдуард! Эдуард! – завопил Рамон, не в силах сдержать приступ яростной обиды на охранника, который обещал ему работу и который мог избавить его от нежелательных соседей, но вдруг покинул место без предупреждения. В тот самый момент, когда положение и без того сложилось удручающее!
Стоп! А вдруг… Имелся еще северный въезд. Глупо надеяться, но все же… И Рамон помчался поперек электротротуаров, перемахнув через одно ограждение, второе; то ныряя в вытянутую тень высоток, то являя себя слепящему оку солнца. Вон они, ворота. Не было смысла и дальше давиться самообманом, но он упрямо бежал, пока с грохотом и звоном не влетел в металлическую решетку.
– Почему сейчас? Что случилось? Почему сейчас? – повторял мужчина, сотрясаясь в приступе ядовитого горя. – Что делать, что делать…
Обратно он не бежал. Сказать, что шел – тоже преувеличение. Скорее, волочил ноги, как путник после целого дня скитаний в пустыне. Чем больше он думал о будущем, тем сильнее приходилось вымучивать следующий шаг. Он думал об Элинор, о том, как она, возможно, продолжит превращаться во вторую Магду и возненавидит его. О, эта Магда будет хуже оригинала. Та была глупа, а Элинор – нет. Она умеет анализировать, и память у нее не короткая. Подмечала и подмечает все его ошибки и просчеты, укоряет – пока что, про себя. А когда все это прорвется, когда она решит высказать все, припомнить… Оставался ли шанс, что до такого не дойдет?
Когда Рамон подошел к пансиону, ноздри издевательски защекотал запах жареного мяса. Костер догорел, и жар углей вытапливал жирок, подрумянивал ароматные кусочки… Мужчина проглотил слюну и пробрался меж множества смуглых, сидящих у входа в здание. У них опять хлеб, еще и мясо! Элинор это видит, понимает. У таких умных и способных беглецов – ничего, а у полудиких, немытых бродяг – так много. Здесь, впрочем, у Рамона находилось весомое оправдание: вольноходцев была целая армия, а он все делал один. Точно, это все и объясняет! К тому же, эти оборванцы, как теперь думалось, добывали себе все необходимое воровством и обманом. А он не мог им уподобиться, он жил своим трудом, никому не причиняя неудобств или, тем паче, ущерба.
Элинор совсем упала духом, когда услышала, что к чему. Она отставила свой чай, закрыла лицо руками и ничего не говорила. Рамон, не в силах слушать тишину, бормотал, что приходило в голову, сам не понимая, для чего: для утешения, оправдания или просто боялся, что если тоже замолчит, то пропустит пробуждение Магды в любимой женщине.
– Это ничего. Если уж так выходит, что они, эти тараканы, все здесь оккупировали, то мы уйдем отсюда, как бы тяжело мне ни было все это бросать. Мы устроимся в другом месте, учтем старые ошибки, выстроим все с нуля.
Элинор ожила, убрала руки от лица. Ее большие глаза загорелись:
– Неужели ты, наконец, созрел?
– А что остается? Нам с ними не справиться. Пусть подавятся, пусть забирают весь пансион.
– Я рада, я очень рада, что ты дошел до такого решения. Сама второй день… Так, куда двинемся? Говорят, в Хавьере есть отличные…
– Элинор, ты что? Какой Хавьер? Я же говорил тебе: нам нельзя светиться в городе.
Бывшая филомена взглянула на него, словно врач на особенно докучливого душевнобольного пациента.
– Неужели, ты еще надеешься выжить здесь?
Он коротко кивнул.
– И не просто выжить! Знаешь, говорят, нет худа без добра. Охраны больше нет, а значит – мы вольны передвигаться по сектору и делать, что нам вздумается. Представь, какие возможности открываются! На том месте, где стоял пост охраны, мы можем возвести себе маленький домик! Или жить в башне. Ты когда-нибудь думала, что будешь жить на сороковом уровне? Так мы это устроим! Уж туда эти черти не полезут, я позабочусь.
– Рамон, мысли реально. Вокруг нас только руины и ничего более. Для жизни они не приспособлены, и даже ты, как сильно бы тебе не хотелось, сколько бы времени ты не потратил на «благоустройство», существенно их не улучшишь. Все останется, как и прежде. Посмотри хотя бы на наш чердак. За что здесь держаться? За картонные стены и жесткую кровать?
– Стены я планировал сделать полноценные, ты же помнишь. Да и мебель однажды можно было бы купить.
Элинор вздохнула:
– Однажды! Рамон, я не хочу однажды! Я хочу жить сейчас. Уверена, ты тоже, милый. Тебе всего лишь надо пересмотреть свое отношение к отдельным вещам.
– Ничего не надо пересматривать, – он мотнул головой. – Я давно решил, как и где хочу жить. И ты тоже решила, как мне казалось. И понимала, что предстоит период лишений.
– Период – да! Но не вечность. А Периферик – это погибель. Сколько ты думаешь протянуть на сухих закусках? Что делать с нехваткой денег, которая скоро начнет ощущаться, раньше или позже – не суть важно? Для пополнения запасов необходимо выбираться в город. Мы не можем жить в полной изоляции.
Рамон фыркнул:
– Так у нас и нет полной изоляции. Вон, спустись и выйди на улицу, раз тебе одиноко, раз моего общества тебе недостаточно! Там целое поселение рождается у нас на глазах. Они развлекут – только попроси!
Элинор проигнорировала его едкий выпад, боясь потерять мысль, и продолжила:
– Мы с тобой – дура и дурак. Инфантильные, бестолковые. Мы думали, что, уйдя от людей, приблизимся к тому, чего нам так долго не хватало. А на деле – двинулись в противоположную сторону. Сбросили балласт в виде тех, о ком приходилось заботиться, сменили обстановку, отказались от элементарных благ и предсказуемости ради так называемого «оазиса». Но правда такова, что оазис оказался миражом.
– Даже так, да? – буркнул Рамон, уже донельзя раздраженный.
– Да, милый. Несколько недель здесь помогли мне понять, что решение наших проблем не в смене места и уединении, а в нашем отношении к людям. Мы разучились разговаривать, слушать. Твердо решили ненавидеть тех, с кем мы даже не знакомы. И из-за чего? Из-за наших же собственных ошибок и разочарования в своем выборе. То, что я не нашла в себе сил возразить матери; то, что прожила столько лет с нелюбимым и не выстроила нормальных отношений с сыном; то, что угробила молодость на тяжелой и неблагодарной работе – это все мои ошибки. Люди вокруг лишь подыграли мне в моих заблуждениях. Я долго отказывалась принять такую простую правду, потому что было страшно. Тяжело проснуться однажды и понять, что ты слаб и не в состоянии самостоятельно взрастить свое счастье. Ведь с этого момента встаешь перед непростым выбором: продолжить барахтаться в болоте несбывшихся желаний и ненавидеть окружающих, либо же возненавидеть себя и начать грандиозную работу, посмотреть на людей другими глазами, протянуть им руку. Я хочу верить, что второй вариант мне по силам. И тебе тоже. Потому что мы с тобой похожи.
Рамон ожидал, что случится неприятный разговор. Он боялся упреков, истерики. Но столь глубокая речь привела его в замешательство и пробудила смутный страх. Хотел бы он нажать на кнопку «стоп» и проснуться неделей ранее, когда все было предельно просто и безоблачно!.. Впрочем, так было для него, и только – Элинор своим монологом дала это понять. С первых дней совместного проживания она вынашивала мысли, призванные подорвать все его устои и устремления, посеять сомнения и свернуть на желаемую для нее тропку. Такое, увы, он не мог позволить даже любимой женщине.
На смену страху пришла злая уверенность в себе. Возможно, ее вызвали не слова Элинор, но болезненные фрагменты воспоминаний. Перед Рамоном вставали образы жены, тещи, собственного отца, начальника – все они упрекали его в нерешительности, неспособности принять решение без оглядки на кого-либо. Его называли безынициативным, и на этот раз он их заткнет. В кои-то веки Рамон твердо решил, чего хочет, и намеревался эту цель достичь. Он докажет и им, и себе, что от природы не безволен, что таким его сделало окружение. Что в самоизоляции способность принимать решения пробудилась и расцвела в глубинах его разума. И Элинор придется вспомнить, что он – мужчина и иногда вынужден упорно стоять на своем, пусть даже ей кажется, что она права, а он – нет.
– Рамон, не молчи. Тебе тоже надо выговориться, я знаю. Я чувствую, что ты тоже близок к переломному моменту, к переосмыслению. Не противься этому. Я помогу тебе, если ты тоже сделаешь шаг навстречу.
Рамон сделал шаг. Но не к ней, а к закутку со стеллажами. Он дрогнул лишь на секунду, потому как ее голос был очень нежным, убедительным, каким и должен быть голос любящей женщины.
– Ну, куда ты? Давай поговорим! – Элинор последовала за ним.
– Дорогая, мы с тобой еще наговоримся. Надо собирать вещи и идти.
– Куда? Ты все-таки надумал? – с надеждой, граничащей со страхом, спросила она: ведь один ответ ее бы обрадовал до крайней степени, а другой – привел в окончательное расстройство.
Рамон повернулся, держа в руках большую дорожную сумку.
– Я давно надумал. Наш новый дом – Периферик. Продолжай верить мне, и у нас все получится.
– Рамон! Я тебя умоляю, послушай меня! К чему это упрямство? Ты цепляешься за мираж, еще раз тебе говорю! Ни работы, ни друзей, ни уютного дома, ни вкусного ужина. Это – мазохизм, а не жизнь! – в глазах Элинор стояли слезы: обезоруживающие, искренние до боли в сердце, вне всякого сомнения. – Давай еще раз начнем новую жизнь, но уже не по-твоему, а… по-другому, ничего не усложняя? Соберемся с духом, разведемся, ты – с женой, а я – с мужем, и прятаться ни от кого не придется. Научимся жить среди людей без отчуждения. По крайней мере, попытаемся. Как ни крути, а там у нас больше шансов. Мы ведь всего лишь люди. А люди могут быть счастливы только среди людей. Я, наконец, пришла к этому, и ты должен. Иначе…
– Что «иначе»? – резче, чем намеревался, спросил Рамон.
Элинор не дрогнула под тяжелым взглядом. Напротив, он как будто подтолкнул ее к ультиматуму.
– Иначе свои вещи я сложу в отдельную сумку, и уйдем мы отсюда в разные стороны.
Рамон уставился на нее. Исчезли шумные вольноходцы, исчез Периферик, исчезла надстройка. Остались только он, Элинор, столкнувшиеся взгляды и развязка, застывшая в ожидании его решения.
– Я думаю, если бы ты действительно любила меня, то не заставила бы что-то выбирать, но последовала бы за мной, продолжая верить и помогать в общем деле.
Элинор горько усмехнулась и смахнула прыткую слезу.
– Милый Рамон… Если бы ты действительно любил меня, то послушал бы и не стал зацикливаться на иллюзии. Это уже болезнь, одержимость. Жаль, что не мной…
У Рамона задрожали руки. Плохой знак. Он поспешно отвернулся от Элинор, сделав вид, что ищет что-то на стеллаже. На деле же ему не хотелось, чтобы она увидела, как против воли начало искажаться его лицо. В столь волнительный момент он просто не удавалось себя контролировать. Могло ли существовать их общее «мы» после двух реплик, которыми они обменялись? Неужели, всё, подошли к краю?
– Что ж, тогда нашему наивному приключению конец… Мне так жаль, просто невыносимо, Рамон. Но я вижу, что мне не достучаться до тебя, не переубедить. Я оставлю тебя наедине с оазисом, а сама вернусь в город. Быть может, мы еще встретимся, и – кто знает.... Береги себя.
Рамон позволил ей обнять себя, но сам не поднял рук, не обхватил за талию, как в прежние времена. Он сдерживался из последних сил. Это была пытка похуже каленого железа. Его бросали, его оставляли наедине с толпой смуглых, посреди осажденного оазиса прямо в данную секунду, и он не мог ничего поделать. Он не мог предать собственное решение, отказаться от судьбы. А это была судьба, несомненно. Но Элинор? Рамон до последнего верил, что и она была в его будущем, где триумф покоя и гармонии нежно расправил бы крылья над высотками самого грандиозного сектора Гранд-Леонарда, который охранял бы их взаимопонимание, их уникальную, уединенную любовь. Но нет. Ему не суждено иметь все сразу. Наверное, это нормально, наверное – справедливо, просто он еще не мог постичь все хитросплетения высшего замысла. Когда-нибудь поймет, обязательно.
Сейчас же он всего лишь застыл на месте и морщился. Словно тысячи ядовитых жал вонзились в тело, а тысяча первым был ее взгляд… Как бы Рамон хотел ее прямо сейчас возненавидеть, оттолкнуть, спустить по лестнице головой вперед и кинуть вдогонку платья и косметику. Но он даже этого не мог. Слабость, старое проклятье, окутала его под прикрытием нестерпимой боли.
– Ты поможешь мне собрать вещи? И, конечно, я была бы тебе очень благодарна, если бы ты проводил меня через канализацию обратно, – Рамон вырвался из нежных объятий и ответил, скосив глаза на пустую стену:
– Нет нужды идти через коллектор. Вольноходцы выпустят тебя через ворота. Ты их только попроси разрезать…кхм… Прости, у меня дела наверху, – и он поспешил к лестнице на крышу.
– Рамон! – окликнула она его.
– Всё, Элинор, всё. Собирай вещи и исчезни, прошу тебя. Счастливой новой жизни в комфорте!
Мужчина вновь услышал свое имя, будучи почти у люка, но не обернулся, не отозвался. Необходимо было как можно скорее с этим покончить. Там, наверху, на секунду или две им овладел яростный порыв: разбежаться, перелететь через невысокое ограждение и камнем ухнуть вниз, прямо на бетонный двор. А потом Рамон вспомнил, где находился, пробежал взглядом по пейзажу, который, он был уверен, никогда ему не надоест. Элинор… Что теперь с нее взять. Она не поняла это место, не смогла полюбить его, а значит, была его недостойна. Выходит, и самого Рамона она тоже недостойна?
Ушла. Зато теперь ему никого не придется убеждать, никому не надо угождать, кроме себя. И он может сосредоточиться на любви к каждому окну, каждой колонне, каждому кирпичу, исследовать все, создать себе новое жилище.
Вольноходцы тоже когда-нибудь уйдут вслед за предавшей его женщиной, как ушли охранники. А значит, рано или поздно, он станет единственным хозяином сектора. Он наведет порядок собственноручно, чтобы наслаждаться им день за днем, год за годом.
– Оазис, – крикнул Рамон и почувствовал, как притупляется боль, а взамен по коже начинают разбегаться приятные мурашки. Слово обладало целительной силой, как и виды перед ним. – Оазис!
Проблески
Шипение открывающейся бутылки пива – самый приятный звук за день. Холодное, бодрящее… Оно всегда успокаивало, если потреблялось в небольших количествах. Однако за последние пару часов это была уже третья бутылка в четыреста миллилитров. Рекорд, пожалуй. Диаманд залпом выпил сразу треть, а то и больше, чему виной – вымотавшая его жара. Только к текущему моменту солнце спряталось за окружавшими небольшой беговой стадион высотками. И возник легкий ветерок. А от вод канала прохлады не было, хоть убей.
Диаманд еще одним глотком прикончил бутылку, поставил на бетонный пол и откинулся на спинку сиденья. Отсюда, с верхнего ряда трибуны, вид был неплохой. Стадион стоял посреди искусственного острова в самом широком месте канала, а на противоположном берегу раскинулась набережная с аттракционами, палатками мороженщиков и всяческих торговцев. Через дорогу – среди множества дорогих резиденций и магазинов – высилось здание отеля. Он-то и был интересен. Сумерки приближались, и с их приходом отель превратился в объект развлечения.
Томислав все рассказывал, шутил. Диаманд особо не слушал, но и не останавливал: болтовня трусоватого, но, в общем-то, неплохого паренька его в этот раз не раздражала. Он позволял ему таскаться за собой, проводить с собой время и называть просто Диам. Простой, понятный Томислав, чего не сказать о подавляющем большинстве… Что в регульере, что на улицах – везде его ровесники были одинаковыми: следовали моде, слушали дурацкую слащавую музыку, сбивались в стаи по интересам. Стоит кому-то одному выделиться из стаи – и все, затравят. Называют себя бунтарями и тут же создают шаблоны, высмеивают правила, но сами по ним живут. И при этом каждый из них считал и будет считать себя уникальным. Идиоты. Ни мозгов, ни характера, чтобы хоть попытаться жить иначе.
– Амди, а ты…, – Томислав, едва открыв рот, получил затрещину.
– Я тебя предупреждал. Никаких «Амди»!
– Да, извини. Хотя мог бы и помягче реагировать. Я-то тебе плохого не желаю никогда, и не издевки ради так…
– Я знаю, кто ты и чего. Хватит. Меня зовут Диаманд. Диам – на крайняк.
Томислав кивнул, поджав губы. Обиделся, черт бритоголовый. Но, зная нрав старшего товарища, не рисковал это подчеркивать. Старая тактика – молчать.
– Ну, говори, чего хотел. Только за языком следи.
Парень подулся для эффекта, а потом спросил, стараясь, чтобы голос звучал легко – как до применения против него воспитательной меры:

